В сердцевине ада
Залман Градовский, житель Лунно (бывший член юденрата Лунно, отвечавший за санитарно-медицинские вопросы), сумел выжить в лагере в Колбасино, попал в Освенцим, потерял там всю семью, но до своей гибели успел записать пережитое (в том числе, и про Лунненское гетто) и закопать в пепле возле крематория. Записи были обнаружены и опубликованы. Градовский был одним из руководителей восстания узников Освенцима 7 октября 1944 года, и погиб в перестрелке
В лагере всех евреев охватила безутешная тоска. Все подавлены и измучены. Все — в нетерпеливом ожидании.
Несколько дней назад мы узнали, что к нам собираются привезти их — и вот уже три дня подряд горят печи, готовые принять новые жертвы. Но казнь откладывалась со дня на день — очевидно, что-то не получалось. Кто знает, какие последствия это может иметь. Может быть, это сопротивление, взрывная сила, пороховая бочка, динамит, который уже давно ждет взрыва? На это мы надеялись, так мы предполагали. Ведь они из лагеря, чешские евреи. Они уже семь месяцев живут здесь — в этом проклятом, ужаснейшем месте на свете. Они уже все здесь знают и все понимают. Они каждый день видят этот огромный столб черного дыма с пламенем, который все время вырывается из подземного ада — и уносит к небесам сотни жизней.
Они знают, им не надо рассказывать, что это место специально создано для того, чтобы истреблять наш народ — убивать газом, расстреливать, резать или мучить, выдавливать из жертв кровь и мозг тяжелой работой и побоями, пока они не свалятся без сил прямо в грязь, — и их изможденные тела так и останутся там лежать. Но чешские евреи верили и надеялись, что их минет эта судьба, потому что их пытаются защитить словацкие власти.
И действительно, это был первый случай, когда целые транспорты с евреями не отправили в печь тут же, а поселили в лагере целыми семьями. Это было для них большим утешением, знаком, что «власть» их выделила, защитила от действия общего для всех евреев закона — и их не ждет теперь та же судьба, которая постигла евреев всего мира: их не принесут эти убийцы в жертву своему богу. И потому они, несчастные и наивные жертвы, ничего не знали, ничего не понимали, не старались разгадать замысел этих подлых садистов и преступников — сохранить им жизнь до поры до времени, отсрочить их казнь — и все ради какой-то великой дьявольской цели. Их обманули, позволив им еще пожить. А когда цель обмана была достигнута, их жизнь перестала быть кому бы то ни было здесь нужна, и теперь они — как и все остальные евреи, чье единственное предназначение здесь — быть убитыми.
Но вдруг их оповестили, что они «высылаются» из лагеря. Страх, испуг, дурные предчувствия овладели ими: интуиция подсказывала, что ничего хорошего их не ждет, — но верить в это они не хотели. Лишь в последний день своей жизни узнали они, что их не переводят на работу в другой лагерь, а ведут на смерть.
В лагере напряжение, хотя это уже далеко не первый случай, когда забирают сразу тысячи людей, которые наверняка уже знают, что их ведут на смерть. Но сегодня случай особый: эти люди приехали сюда целыми семьями, живут вместе и надеются, что их освободят, — ведь уже семь месяцев они здесь живут, — и что они смогут вернуться к своим братьям, которые остались в Словакии. Все сострадают им сейчас, всем жаль эти юные жизни, этих людей, которые сидят взаперти в темных холодных бараках, как в клетках, а двери заколочены досками.
Семьи уже разделены: рыдающих женщин ведут в один барак, убитых горем мужчин — в другой, а подросших детей — в третий, они сидят там, тоскуют без родителей и плачут.
Все в отчаянии ходят по лагерю, невольно смотрят в ту сторону, в тот угол, где за проволокой, за забором переполненные бараки, в которых тысячи людей, тысячи миров, — и вот наступает их последняя ночь. Они сидят там, несчастные жертвы, оглушенные болью и муками, и с ужасом ждут, что произойдет. Они знают, они чувствуют, что близок их последний час. Сквозь щели в барачных стенах проникают лунные лучи — Луна освещает обреченных на смерть.
Три дня назад, в понедельник 6 марта 1944 года, пришли эти трое. Лагерфюрер, хладнокровный убийца и бандит, обершарфюрер Шварцхубер, оберрапортфюрер обершарфюрер и наш обершарфюрер Фост, начальник над всеми четырьмя крематориями. Они втроем обошли всю территорию, прилегающую к крематориям, и выработали «стратегический» план: в день величайшего торжества они прикажут поставить здесь усиленные отряды охраны в полной боевой готовности.
Мы все ошеломлены: вот уже шестнадцать месяцев мы заняты на этой ужасающей «зондер»-работе, но на нашей памяти такие меры безопасности власть принимает впервые.
У нас перед глазами прошли уже сотни тысяч жизней — юных, сильных, полнокровных; не раз приезжали сюда транспорты с русскими, с поляками, с цыганами — все эти люди знали, что их привели на смерть, и никто из них даже не пытался оказать сопротивление, вступить в борьбу — все шли как овцы на убой.
Исключений за нашу 16-месячную службу было только два. Один раз бесстрашный юноша, прибывший транспортом из Белостока, бросился на солдат с ножом, нескольких из них ранил и, убегая, был застрелен.
Второй случай — перед памятью этих людей я склоняю голову в глубочайшем почтении — произошел в варшавском транспорте. Это были евреи из Варшавы, которые получили американское гражданство, среди них даже были люди, родившиеся уже там, в Америке. Их должны были выслать из немецкого лагеря для интернированных лиц в Швейцарию, под патронат Красного Креста, но «высококультурная» немецкая власть отправила американских граждан вместо Швейцарии — сюда, в печь крематория. И здесь произошла поистине героическая драма: одна молодая женщина, танцовщица из Варшавы, выхватила у обершарфюрера из «политуправления» Освенцима револьвер и застрелила рапортфюрера — известного бандита унтершарфюрера Шиллингера. Ее поступок вдохновил других смелых женщин, и они зааплодировали, а после бросились — с бутылками и другими подобными вещами вместо оружия — на этих бешеных диких зверей — людей в эсэсовской форме.
Только в этих двух транспортах нашлись люди, которые оказали врагу сопротивление: они уже знали, что им больше нечего терять. Но остальные сотни тысяч — те осознанно шли на смерть, как скот на бойню. Вот почему сегодняшние приготовления так нас изумили. Мы поняли: до них дошли слухи, что чешские евреи, которые уже семь месяцев живут в лагере целыми семьями и знают не понаслышке, что здесь происходит, так просто не сдадутся, — и поэтому они мобилизуют все свои средства, чтобы подавить сопротивление людей, которые могут иметь «наглость» не пожелать идти на смерть и могут поднять восстание против своих «невиновных» палачей.
В понедельник в полдень к нам в блок прислали сказать, что нам надо отдохнуть, чтобы потом со свежими силами приняться за работу, и чтобы 140 человек — почти целый блок (это после того как разделили нашу команду из двухсот человек) — приготовились идти к транспорту, потому что сегодня целых два крематория — I и II — будут работать в полную силу.
План был разработан до мельчайших деталей. И мы, несчастнейшие из жертв, оказались вовлечены в борьбу против наших же братьев и сестер. Мы вынуждены быть первой линией обороны, на которую, наверное, набросятся жертвы, — а они, «герои и борцы за великую власть», будут стоять за нашими спинами — с пулеметами, гранатами и винтовками — и из укрытия стрелять в обреченных.
Прошел день, прошли второй и третий. Наступила среда — окончательный срок, когда их должны были привезти. Их прибытие откладывалось по ряду причин. Во-первых, кроме «стратегической» подготовки, потребовались и моральные приготовления. Во вторых, эта «власть» стремится приурочить резню к еврейским праздникам — поэтому нынешние жертвы должны быть убиты в ночь со среды на четверг — в еврейский Пурим, Последние три дня «власть» — холодные убийцы и садисты, циничные и кровожадные — делает все возможное, чтобы обмануть евреев, сбить их с толку, спрятать от них свое варварское лицо, — чтобы жертвы ничего не поняли, не разгадали черных мыслей этих «культурных людей» — представителей варварской власти с улыбкой на лице.
И вот обман начался.
Первая версия, которую они распространили, заключалась в том, что пять тысяч чешских евреев будут отправлены на работу во второй «рабочий» лагерь. Кандидаты — мужчины и женщины моложе сорока лет — должны были заявить о себе лично, сообщить о своей профессии. А остальные — пожилые люди обоих полов и женщины с маленькими детьми — останутся вместе, разделять семьи никто не будет. Это были первые капли опиума, которые опьянили испуганную толпу, отвлекли внимание людей от страшной действительности.
Вторая ложь состояла в том, что людям велели взять с собой все имущество, которое у них было. «Власть» со своей стороны обещала всем, кто уезжает, двойную пайку.
И еще одну жестокую, сатанинскую ложь задумали они: распространили слух, что до 30 марта никакая корреспонденция в Чехословакию отправляться не будет, а те, кто хочет получить посылки, должны, как и раньше, за несколько недель написать своим друзьям письмо (с датой до 30 марта) — и передать его лагерной администрации: письмо будет отправлено, адресаты получат посылки, как получали и раньше. Никто из евреев не забил тревогу, никто и представить себе не мог, что эта «власть» решилась и на такую подлость, на такую гнусность в борьбе… против кого? Против толпы беззащитных, безоружных людей, которые могут бороться разве что голыми руками и чья сила заключается разве что в их воле.
Вся эта хорошо продуманная ложь была лучшим средством усыпить, парализовать внимание реально мыслящих людей, которые прекрасно понимали, что происходит. Все — люди обоих полов и всех возрастов — попались в эту ловушку, все жили иллюзией, что их действительно переводят на работу, и только когда преступники почувствовали, что их «хлороформ» подействовал, они приступили к осуществлению операции по уничтожению.
Они разорвали семьи, разделили женщин и мужчин, старых и молодых, загнали в ловушку — в еще пустовавший лагерь, находившийся рядом. Их обманули, несчастных и наивных, заперли в холодных деревянных бараках — каждую группу отдельно — и заколотили двери досками. Итак, первая акция удалась. Несчастные пришли в отчаяние, в ужас, но логически мыслить они уже не могли. Даже когда они поняли, для чего их заперли — для отправки на смерть, — даже тогда они вели себя так же покорно и безропотно. У них уже не было сил для того, чтобы думать о борьбе и сопротивлении, потому что у каждого, даже если его мозг был уже уничтожен этим опиумом, этой иллюзией, теперь появились новые заботы.
Молодые, полные сил юноши и девушки думали о своих родителях — кто знает, что с ними происходит? Молодые мужья, когда-то полные сил и мужества, сидели, окаменев от горя, и думали о своих женах и детях, с которыми их разлучили сегодня утром. Любая мысль о восстании меркла перед глубоким личным горем. Каждый был охвачен тревогой и болью за свою семью, это оглушало, парализовало мышление, не давало подумать об общей ситуации, в которой все мы находились. И теперь все эти люди — когда-то, на свободе, юные, энергичные и готовые к борьбе — сидели в оцепенении, в отчаянии, раздавленные и разбитые.
Пять тысяч жертв шагнули, не сопротивляясь, на первую ступеньку лестницы, ведущей в могилу.
Ложь, давно применяющаяся в их дьявольской практике, снова увенчалась успехом.
В среду 8 марта 1944 года, в ночь накануне праздника Пурим, в тех странах, где еще могут жить евреи, все шло своим чередом: верующие шли в синагоги, все праздновали этот великий праздник, напоминающий о чуде, случившемся с нашим народом, и желали друг другу, чтобы как можно скорее закончилась война с новым Аманом.
А в это время в лагере Аушвиц-Биркенау 140 членов «зондеркоммандо» идут, — но не в синагогу, не праздновать Пурим и не вспоминать о великом чуде.
Они идут, опустив головы, как в глубоком трауре. Их горе передается и всем остальным евреям лагеря: ведь дорога, которой они идут, ведет в крематорий, в этот еврейский ад. Вместо еврейского праздника, символизирующего победу жизни над смертью, они будут участвовать в торжестве варваров, которые приводят в исполнение приговор многовековой давности, недавно обновленный их божеством и теперь вновь вступивший в силу.
Скоро мы будем свидетелями этого страшного праздника. Мы должны будем своими глазами увидеть нашу гибель: мы увидим, как пять тысяч человек, пять тысяч евреев, пять тысяч полнокровных и полных жизненных сил людей — женщин, детей и мужчин, старых и молодых, — по принуждению этих проклятых извергов, вооруженных ружьями, гранатами и пулеметами, которые гонят, грозят натравить свирепых собак, бьют, — как пять тысяч человек, оглушенные, не осознавая, что делают, пойдут, побегут в объятия смерти. А мы — их братья — должны будем помочь варварам осуществить все это: вытащить несчастных из машин, конвоировать их в бункер, заставить раздеться догола и загнать их, уже полуживых, в смертоносную камеру.
Когда мы пришли к первому крематорию, они — представители власти — уже давно были там и ждали начала операции. Множество эсэсовцев в полной боеготовности, у каждого — винтовка, полный патронташ, гранаты. Эти до зубов вооруженные солдаты окружили крематорий, заняли стратегически важные позиции. Повсюду стояли машины с прожекторами — чтобы полностью освещать обширное поле боя. Еще одна машина — с боеприпасами — стояла поодаль, приготовленная на случай, если жертвы попытаются оказать сопротивление своему врагу — гораздо более сильному.
Все уже подготовлено. 70 человек из нашей команды тоже расставлены на территории крематория. А за оградой стоят они — и ждут своих жертв.
Машины, мотоциклы проносятся перед нами. То тут, то там осведомляются, все ли готово. В лагере воцарилась полная тишина. Все живое должно исчезнуть, спрятаться в бараках. В тишине ночи слышится новый звук — это маршируют вооруженные солдаты в касках, как если бы они шли сражаться. Это первый случай, чтобы в лагере ночью, когда все спят или тихо лежат за колючей проволокой и заборами, появились войска. Итак, в лагере объявлено военное положение.
Все живое должно застыть и сидеть в своей клетке, не шелохнувшись, хотя все знают и уже не раз — постоянно в последнее время — видели, как гонят на смерть все новых и новых жертв. Но сегодня они сделали все для всеобщего устрашения. Только небу, звездам и луне Дьявол сегодня не может закрыть глаза. Они и будут свидетелями того, что он здесь творит нынешней ночью.
В таинственной тишине ночи раздается шум машин. Это палачи отправились в лагерь за своими жертвами. Воют свирепые псы — они готовы броситься на несчастных. Слышны крики пьяных солдат и офицеров, которые стоят наготове.
Прибыли «хефтлинги» — заключенные немцы и поляки, которые добровольно предложили свою помощь по случаю «праздника». И вот они все вместе, банда убийц, исчадия ада, отправились хватать несчастных, загонять их на грузовики и посылать на смерть.
Жертвы сидят взаперти, их сердца бешено колотятся от ужаса. Они сидят в напряжении, им слышно все, что происходит. Через щели в бараках они видят убийц, которые вот-вот лишат их жизни. Они уже знают, что им недолго осталось, что даже в мрачном бараке, откуда они теперь не вышли бы сами, им не дадут остаться. Их вытащат и погонят куда-то — на верную смерть.
Во мгновение ока толпу, пришедшую в отчаяние, охватил безумный страх. Все напряженно застыли и окаменели. Слышны приближающиеся шаги, сердце рвется из груди от страха. Вот отрывают доски, которыми были заколочены двери первого барака, — несчастным и эти доски казались какой-никакой зашитой, ведь пока вход в барак забит, люди в нем еще отгорожены от смерти, и где-то в глубине души они еще надеялись, что смогут остаться взаперти навсегда — пока их не освободят.
Двери распахнулись. Узники стоят в оцепенении и с ужасом смотрят на палачей. Потом они начинают инстинктивно пятиться в глубь барака — словно от призрака. Как бы они хотели убежать куда-нибудь, где бы убийцы не нашли их!
Они в ужасе смотрели на людей, которые пришли их убивать. Но молчание было нарушено: бешеные псы с воем бросились на жертв, изверги стали избивать несчастных палками. Обреченная толпа — масса, слившаяся воедино, — подалась и распалась на группы по несколько человек. Сломленные, пришедшие в отчаяние люди сами побежали к машинам, спасаясь от побоев и укусов собак. Матери с детьми на руках падали, на проклятую землю пролилась кровь невинных младенцев.
И вот жертвы стоят в кузовах грузовиков и оглядываются, ища чего-то, как будто они что-то потеряли. Молодой женщине кажется, что вот-вот придет к ней ее любимый муж, мать ищет своего молодого сына, влюбленная девушка разглядывает машины: вдруг на одной из них она увидит своего возлюбленного…
И вот они прибыли, несчастные жертвы. Машины остановились — и сердца застыли. Жертвы, испуганные, беспомощные, покорные, доведенные до отчаяния, оглядываются по сторонам, рассматривают площадь, здание, в котором их жизни, их юные тела, пока еще полные сил, скоро исчезнут навсегда.
Они не могут понять, чего хотят эти десятки офицеров с золотыми и серебряными погонами, блестящими револьверами и гранатами.
И почему здесь стоят, как воры, приговоренные к казни, солдаты в шлемах, почему из-за деревьев и проволоки нацелены на них черные дула, — почему, за что? Почему светят так много прожекторов? Неужели ночь так черна сегодня? Неужели сегодня будет недостаточно лунного сияния?
Они стоят, потерянные, беспомощные и покорные. Они уже увидели ужасающую действительность, и перед их глазами уже разверзлась бездна, готовая поглотить их. Они чувствуют, что все на свете — жизнь, природа, деревья, поля, все, что еще существует, — все исчезает, утонет в глубокой пучине вместе с ними. Звезды погаснут, небеса помрачнеют, потемнеет Луна, — мир уйдет вместе с ними. А они, несчастные жертвы, хотят уже только одного — как можно быстрее исчезнуть в этой пропасти.
Они бросают свою поклажу — все то, что взяли с собой в «путешествие», — им уже не понадобятся никакие вещи.
Их заставляют вылезти из кузова и спуститься на землю — они не сопротивляются.
Большой подвальный зал, посередине которого — двенадцать столбов, поддерживающих все здание, сейчас залит ярким электрическим светом. По периметру зала уже расставлены скамейки, а над ними прибиты крючки для одежды несчастных. На одном из столбов — вывеска. Надпись на разных языках сообщает несчастным, что они пришли в баню, что вещи надо снять и сдать для дезинфекции.
Мы стоим неподвижно и смотрим на них. Они уже все знают, они понимают, что это не баня, а коридор, ведущий к смерти.
Зал все больше заполняется людьми. Приезжают машины со все новыми и новыми жертвами, и зал поглощает их всех. Мы стоим в смущении и не можем сказать женщинам ни слова, хотя мы переживаем это уже не в первый раз. Уже много транспортов с несчастными проходило перед нами, много подобных зрелищ мы видели. И все же сегодня мы чувствуем себя не так, как раньше: мы слабы, мы бы и сами упали без сил.
Мы все оглушены. Тела женщин, молодые, полные сил и юных чар, скрыты одеждой — старой и рваной. Перед нами головы с черными, каштановыми, светлыми кудрями, юные и поседевшие, — и глаза, от которых не отвести взгляда: черные, глубокие, волшебные. Перед нами сотни юных, полнокровных жизней, цветущих, свежих, как еще не сорванные розы в саду, которые питает дождь и освежает утренняя роса, которые блестят в солнечных лучах, как жемчужины. Так и глаза этих женщин сверкают сейчас…
У нас не было мужества, не было смелости сказать им, нашим милым сестрам, чтобы они разделись догола: ведь вещи, которые на них надеты, — это теперь их последняя оболочка, последняя защита в жизни. Когда они снимут одежду и останутся в чем мать родила, они потеряют последнее, что привязывает их к жизни. Поэтому мы не требуем, чтобы они разделись. Пусть они останутся в своей «броне» еще мгновение: ведь это их последнее жизненное укрытие!
Первый вопрос, который задают женщины, — про их мужчин: придут ли они? Все хотят знать, живы ли еще их мужья, отцы, братья, любимые или где-нибудь уже валяются их мертвые тела? Может быть, они догорают в пламени крематория — и скоро от них не останется и следа, и тогда женщины останутся уже одни — с осиротевшими детьми? Может быть, отец, брат или любимый уже исчезли навеки? Тогда почему, зачем ей самой жить на свете? — вопрошает одна. Другая, уже смирившаяся с неминуемой гибелью, смело и спокойно спрашивает: «Брат мой, ответь, сколько длится смерть? Тяжела ли она? Легка ли?».
Но долго им не дают так стоять. В подвале появляются бандиты. Воздух рвется от криков пьяных садистов, алчущих как можно скорее утолить свою звериную жажду — насмотреться на голые тела моих прекрасных возлюбленных сестер. Удары палок сыплются им на плечи и головы… И одежда спадает с тел. Кто-то стесняется, хочет скрыться куда-нибудь, чтобы не показывать своей наготы. Но нет никакого угла, где можно было бы укрыться. Нет здесь и стыда. Мораль, этика — все это, как и сама жизнь, сходит здесь в могилу.
Некоторые женщины, как будто пьяные, бросаются к нам в объятия и просят смущенными взглядами, чтобы мы раздели их догола. Они хотят забыть обо всем, ни о чем не думать. С миром прошлого, с моралью и принципами, с этическими соображениями они уже порвали, ступив на первую ступеньку лестницы, ведущей сюда. Сейчас, на пороге смерти, пока они еще держатся на поверхности, их тела еще живы, они чувствуют, они стремятся получить удовлетворение… Они хотят ему дать все: последнее удовольствие, последнюю радость — все, что можно взять от жизни. Они хотят напитать, насытить его перед кончиной. И поэтому они хотят, чтобы их юное тело, полное жизненных сил, трогала и ласкала рука чужого мужчины, который им теперь ближе самого любимого человека. Они хотят при этом чувствовать, будто их исстрадавшееся тело гладит рука возлюбленного. Они хотят ощутить опьянение — о, мои любимые, нежные сестры! Они вытягивают губы, они страстно жаждут поцелуя — пока они еще живы.
Приезжают все новые машины, все больше и больше людей загоняют в большой подвал. По рядам обнаженных проносятся крики и стоны: это голые дети увидели своих голых матерей. Они целуются, обнимаются, радуются встрече. Ребенок радуется, что пойдет на смерть вместе с матерью, прижавшись к ее сердцу.
Все раздеваются догола и встают в очередь. Кто-то плачет, кто-то стоит в оцепенении. Одна девушка рвет на себе волосы и что-то дико говорит сама себе. Я приближаюсь к ней и слышу, что это просто слова: «Где ты, любимый мой? Почему ты не придешь ко мне? Я так молода и красива!». Стоявшие рядом сказали мне, что она сошла с ума еще вчера, в бараке.
Кто-то обращается к нам с тихими и спокойными словами: «Ах! Мы так молоды! Хочется жить, мы еще так мало пожили!». Они не просят нас ни о чем, потому что знают и понимают, что мы и сами здесь обречены. Они просто говорят, потому что сердце переполнено, они хотят перед смертью высказать свою боль человеку, который их переживет.
Вот сидят несколько женщин, обнимаются и целуются: это встретились сестры. Они уже как будто слились в один организм, в одно целое.
А вот мать — голая женщина, которая сидит на скамейке с дочерью на коленях — девочкой, которой нет еще пятнадцати. Она прижимает голову дочки к груди, покрывает ее поцелуями. И слезы, горючие слезы падают на юный цветок. Это мать оплакивает своего ребенка, которого она вот-вот сама поведет на смерть.
И вот они стоят всей толпой, голые, окаменевшие, и смотрят в одном направлении, подавленные мрачными раздумьями.
В стороне от толпы лежат их вещи, сброшенные в кучу, — вещи, которые они только что сбросили с себя. Эти вещи не дают им покоя: хоть они и знают, что одежда им больше не понадобится, — и все равно чувствуют, что к этим вещам, еще хранящим тепло их тел, они привязаны множеством нитей. Вот лежат они: платья, свитера, которые согревали их и скрывали их тела от посторонних взглядов. Если бы они могли еще раз их надеть, как бы они были счастливы! Неужели уже слишком поздно?
И никто никогда из них не будет уже носить эти вещи? Неужели они не достанутся теперь никому? Никто больше не вернется, чтобы надеть?
Эти вещи лежат так сиротливо! Они словно напоминание о смерти, которая вот-вот придет.
Ах, кто теперь будет носить эти вещи? Вот одна женщина отделяется от толпы, подходит к куче вещей и поднимает шелковую косынку из-под ног моего товарища, который наступил на нее. Она берет косынку себе — и тотчас же смешивается с толпой. Я спрашиваю ее: «Зачем вам этот платочек?» — «С ним связаны мои воспоминания, — тихим голосом отвечает она, — и с ним я хочу сойти в могилу».
И вот двери распахнулись. Ад широко раскрыл свои ворота перед жертвами. В маленькой комнате, через которую лежит путь к смерти, выстроились, как на параде, приспешники власти. Политуправление лагеря пришло сегодня на свое торжество в полном составе. Здесь высшие офицерские чины, которых мы за 16 месяцев службы еще не видели. Среди них «эсэсовка» — начальница женского лагеря. Она тоже пришла посмотреть на этот большой «национальный праздник» — гибель стольких детей нашего многострадального народа.
Я стою в стороне и смотрю: вот бандиты и убийцы — а напротив мои несчастные сестры.
Марш смерти начался. Женщины идут гордо, твердой поступью, смело и мужественно, как будто на праздник. Они не сломались и тогда, когда увидели то последнее место, последний угол, где скоро разыграется последняя сцена их жизни. Они не потеряли почвы под ногами, когда осознали, что попали в самое сердце ада. Они уже давно свели все счеты с жизнью и с этим миром, еще там, наверху, до того, как пришли сюда. Все нити, связывавшие их с жизнью, оборвались еще в бараке. Поэтому сейчас они идут спокойно и хладнокровно, приближение к смерти их уже не страшит. Вот они проходят — голые женщины, полные жизненных сил. Кажется, что этот марш длится целую вечность.
Кажется, что это целый мир — что все женщины на свете разделись и идут на этот дьявольский парад.
Вот проходят матери с младенцами на руках, кто-то ведет ребенка за ручку. Детей целуют все время: терпение чуждо материнскому сердцу. Вот идут, обнявшись, сестры, не отрываясь друг от друга, словно слившись воедино. На смерть они хотят пойти вместе.
Все смотрят на выстроившихся офицеров, — а те избегают смотреть в глаза своим жертвам. Женщины не просят, не умоляют о милости. Они знают, что этих людей просить бессмысленно, что в их сердце нет ни капли жалости или человечности. Они не хотят доставить им этой радости — слышать, как несчастные молят в отчаянии, чтобы кому-нибудь из них даровали жизнь.
Вдруг марш голых женщин остановился. Вот красивая девочка лет девяти, две светлые косы падают на плечи, как золотые полосы. За ней шла ее мать — вдруг она остановилась и смело сказала офицерам:
— Убийцы, бандиты, проклятые преступники! Вы убиваете нас, безвинных женщин и детей! Нас, безвинных и безоружных, вы обвиняете в той войне, что вы сами развязали. Как будто мы с ребенком воюем против вас. Нашей кровью вы собираетесь искупить свои поражения на фронте. Уже ясно, что вы проиграете войну. Каждый день вы терпите поражения на Восточном фронте. Сейчас вы можете творить все что угодно, — но настанет и для вас день расплаты. Русские отомстят за нас! Они живьем разорвут вас на части. Наши братья по всему миру не простят вам ваших преступлений: они отомстят за нашу безвинно пролитую кровь!
После этого она обратилась к женщине, стоявшей среди эсэсовцев:
— Бестия! И ты тоже пришла любоваться нашим несчастьем? Помни! У тебя тоже есть семья, дети — но недолго осталось тебе наслаждаться таким счастьем. Тебя, живую, будут раздирать на части — и твоему ребенку, как и моему, недолго осталось жить! Помните, изверги! Вы заплатите за все — весь мир отомстит вам!
И она плюнула бандитам в лицо и вбежала в бункер вместе с ребенком.
В оцепенении молчали эсэсовцы, не имея мужества посмотреть в глаза друг другу: они услышали правду — великую, страшную правду, которая разрывала, резала, жгла их звериные души. Они дали ей высказаться, хотя и догадывались, что она будет говорить: они хотели услышать то, о чем думают еврейские женщины, идя на смерть.
В ночной тишине слышатся шаги. Два силуэта движутся в лунном свете. Эти люди надевают маски, чтобы засыпать смертоносный газовый порошок. У них в руках две банки — их содержимое скоро убьет тысячи людей. Они идут к бункеру, к этому адскому месту. Идут спокойно, уверенно и хладнокровно, как будто исполняют свой священный долг. Их сердце твердо, как лед, их руки не дрожат, твердой походкой подходят они к отверстию в крыше бункера, засыпают туда газ и закрывают отверстие втулкой, чтобы ни одна частица не попала наружу. До них доносится тяжелый стон людей, уже борющихся со смертью, — стон боли и страдания, — но он не может смягчить их сердец. Глухие, онемевшие, они идут ко второму отверстию и засыпают газ туда. Вот они добрались до последнего отверстия… Теперь маску можно снять. Гордые и довольные собой, они мужественно уходят оттуда, где только что совершили дело огромной важности для своего народа, для своей страны — еще один шаг на пути к победе.
Теперь все переходят к другому крематорию: офицеры, часовые и мы. И снова все выстраиваются как на поле боя. Все стоят в напряжении, в полной боеготовности. Сейчас приняты еще большие меры предосторожности, потому что если первая встреча с жертвами прошла спокойно и никто не оказал сопротивления, то сейчас можно ожидать всего: жертвы, с которыми предстоит теперь сразиться, которых вот-вот сюда привезут, — это молодые сильные мужчины. Ожидание длится недолго. Послышался шум машин, уже хорошо знакомый нам. «Едут!» — кричит «комендант». Это значит, что все должны приготовиться. В тишине ночи слышно, как люди — в последний раз перед «боем» — проверяют винтовки и другое оружие, чтобы удостовериться в том, что если понадобится его применить, то оно сработает как надо.
Прожекторы освещают большую площадку перед крематорием. В их лучах и в лунном свете блестят стволы винтовок, которые держат пособники «великой власти», борющейся с беззащитным, несчастным народом Израиля. Среди деревьев и колючей проволоки спрятались солдаты. Лунный свет отражается от «черепов» на шлемах этих «героев», которые с гордостью носят свою униформу. Как черти, как дьяволы, стоят эти убийцы и преступники в ночной тишине и ждут — с жадностью и страхом — новой добычи.
И мы, и они — все в напряжении. Представители власти явно боятся, что доведенные до отчаяния мужчины захотят умереть смертью храбрых. И тогда, кто знает, не погибнут ли они сами в этом бою?
Мы тоже на взводе. Сердце колотится. Вот мы помогаем мужчинам выбраться из машин. Мы надеялись, верили, что сегодня это произойдет — настанет тот решительный день, которого мы долго и с нетерпением ждали, день, когда обреченные люди, поняв, что им некуда отступать, станут сопротивляться своим палачам, а мы в этой неравной схватке будем сражаться вместе с ними — плечом к плечу. Нас не остановит и то, что борьба безнадежна, что ни свободы, ни жизни мы не добьемся. Великим утешением станет для нас возможность геройски покинуть эту мрачную жизнь. Этому страшному существованию должен же быть положен конец!
Но каково было наше разочарование, когда мы увидели, что эти люди, вместо того чтобы броситься, как дикие звери, на нас и на них, выбравшись из машин, стали безропотно и испуганно оглядываться. Пристально рассмотрев здание крематория, опустив руки и пригнув голову, подавленные и покорные, они двинулись на смерть. Все спрашивали о женщинах: здесь ли они? Их сердца все еще бьются только ради них, они привязаны к ним тысячью нитей. Их плоть, их кровь, их сердце и душа еще слиты в единое целое — только для них. Но эти отцы, мужья, братья, женихи, знакомые не знают, что их женщины и дети, сестры, невесты и подруги, о которых только и думают они сейчас, которые только и держат их в жизни, — уже давно мертвы и лежат в этом большом здании, в глубокой могиле, неподвижные, застывшие навсегда. Они не поверят, даже если мы им расскажем правду: нить, связывавшая их с женщинами, уже давно перерезана.
Некоторые в ожесточении бросают свою поклажу на землю. Им уже хорошо знакомо это здание с трубами, в котором каждый день погибают все новые и новые жертвы. Другие стоят в оцепенении, насвистывают что-то себе под нос, смотрят в тоске на луну и звезды — и со стоном спускаются в глубокий подвал. Это длится недолго: они разделись и дали себя убить, не сопротивляясь.
Душераздирающая сцена разыгралась только тогда, когда к мужчинам привели женщин, которым не хватило места в первом крематории. К ним, как безумные, бегут голые мужчины, каждый ищет среди них свою жену, мать, дочь, сестру, подругу… «Счастливые» пары, которым «повезло» встретиться здесь, обнимаются и страстно целуются. Страшно выглядит эта картина: посреди большого зала голые мужчины держат в объятиях своих жен, братья и сестры в смущении целуются и плачут — и, «радостные», они идут в бункер.
Многие женщины остались сидеть в одиночестве. Их мужья, братья, отцы вошли в бункер одними из первых. Они думают о своих женах, дочерях, матерях, сестрах и не знают, несчастные, что в том же бункере, среди чужих мужчин, стоят и они — и тоже смотрят повсюду, выискивают в толпе родное лицо. Дико блуждает их взор, исполненный тоски и страдания.
Вот посреди толпы мужчин лежит одна женщина, растянувшись на полу, лицом к толпе: до последнего вздоха она еще искала среди незнакомых мужчин своего мужа.
А он, ее муж, стоял где-то там, далеко от нее, прижатый к стене бункера. Он в тревоге приподнимался на цыпочки, искал взглядом свою нагую жену, затерявшуюся в толпе. Но как только он ее заметил, его сердце бешено заколотилось, он протянул к ней свои объятия, попытался пробраться к ней или хотя бы позвать ее — в камеру подали газ, и он упал замертво: протянув руки к жене, с открытым ртом, с глазами навыкате. Он умер с ее именем на устах.
Два сердца бились созвучно — и в один миг, полные тоски и горя, оба остановились.
Через окно в двери бункера власть предержащие увидели, как множество людей, огромная толпа упали, убитые ядовитым газом.
Счастливые и довольные, в сознании неоспоримой победы, выходят они из подвала. Теперь они могут спокойно ехать по домам. Злейший враг их народа, их страны уничтожен, истреблен. Теперь открываются новые возможности! Великий фюрер говорил, что каждый убитый еврей — это шаг к победе. Сегодня же им удалось уничтожить пять тысяч евреев. Это блестящая победа — без жертв, без потерь со стороны палачей. Кто еще может похвастаться таким деянием?
Они прощаются, поднимая руку, поздравляют друг друга и, довольные, рассаживаются по машинам. И машины увозят великих героев, гордых своим подвигом. Скоро они будут рапортовать о свершившемся по телефону. Весть о великой победе, одержанной сегодня, дойдет и до самого фюрера. Heil Hitler!
Дрожащими руками мы отвинчиваем болты и выдвигаем засовы. Вот открыты двери обеих камер, и прямо на нас хлынула волна ужасной смерти. Вот стоят окаменевшие люди, их взгляд неподвижен. Как долго? Как долго длились эти мучения? У нас перед глазами еще стоит совсем другое зрелище: те же самые люди в последние часы их жизни — полнокровные, молодые мужчины и женщины; мы еще слышим отзвук их голосов, нас преследует взгляд их глубоких глаз, наполненных слезами.
Во что превратились они сейчас? Тысячи, тысячи людей, еще недавно полных жизни, поющих и шумных, — лежат теперь как камни. От них не услышать ни звука, ни слова: их уста онемели навеки. Их взгляд остановился навсегда, их тела лежат без движения. В мертвом молчании слышен только очень тихий, едва уловимый звук: это из мертвых тел выливается жидкость. Больше ничего не происходит в этом мертвом мире.
Мы застыли, оцепенели от зрелища, которое открылось нашему взору: перед нами огромное множество нагих мертвых тел. Они лежат, слившись друг с другом, переплетясь: как будто сам дьявол уложил их в таких причудливых позах. Один человек лежит, вытянувшись, на телах других. Двое обнялись и сидят у стены. Иногда видно только часть спины человека — а голова и ноги под телами других людей. Кто-то умер, вытянув руку или ногу, а все тело погрузилось в море других нагих тел. Целый мир мертвецов — и твой взгляд выхватывает лишь куски человеческой плоти.
В этот раз на поверхности оказалось много голов. Кажется, что люди плавали в глубоком море нагих тел, — и только головы возвышались над волнами.
Головы — черные, светлые, каштановые волосы — только их еще можно различить на фоне общей массы из голой плоти.
ужно, чтобы сердце окаменело. Нужно заглушить в нем болезненные чувства, не замечать той ужасной муки, которая, переполняет тебя, как потоп.
Надо превратиться в машину, которая не видит, не чувствует и не понимает.
Мы приступили к работе. Нас несколько человек, и каждый занят своим делом. Мы отрываем тела от мертвой груды, тащим — за руку, за ногу, как удобнее. Кажется, они сейчас разорвутся от этого на части: их волокут по холодному и грязному цементному полу, чистое мраморное тело, как веник, собирает всю грязь, все нечистоты, по которым его тащат. После этого грязные тела поднимают и кладут лицом вверх: на тебя смотрят застывшие глаза, как будто спрашивая: «Брат, что ты собираешься со мной сделать?!».
Нередко узнаешь тела знакомых людей — тех, рядом с кем ты и сам стоял до того, как их загнали в камеру.
Один труп обрабатывают три человека. Один вырывает щипцами золотые зубы, другой срезает волосы, третий вырывает женщинам серьги, иногда из мочек ушей льется кровь. Кольца, которые не удается снять, выдирают щипцами.
После этого тело грузят в лифт. Два человека бросают туда тела, как дрова, и когда набирается семь или восемь трупов, подается знак, и лифт уезжает наверх.
Наверху лифт встречают другие четыре человека. Двое стоят с одной стороны — они относят тела в «резервную» комнату. Другие двое тащат трупы прямо к печам. Тела складывают по два у жерла каждой печи. Трупы маленьких детей бросают в сторону — потом их добавят к трупам двух взрослых. Тела выкладывают на железную доску, потом открывают дверцу — и доску задвигают в печь.
Языки пламени лижут мертвую плоть, огонь обнимает тела, как сокровище. Сначала загораются волосы. Потом трескается кожа. Руки и ноги начинают дергаться: жилы натягиваются и приводят их в движение. Скоро все тело уже объято пламенем, кожа лопается, из организма выливаются все жидкости, и слышно, как шипит огонь. Человека уже не видно: только силуэт пламени, в котором что-то есть. Разрывается живот, кишки выпадают — и тут же сгорают целиком. Дольше всего горит голова. Из глазниц вырываются языки пламени: это сгорают глаза и мозг, а во рту горит язык. Вся процедура длится двадцать минут — после этого от человеческого тела остается только пепел.
Ты же стоишь в оцепенении и смотришь на это.
Вот кладут на доску два тела — это были два человека, два мира, они жили, существовали, что-то делали, творили, трудились для мира и для себя, вносили свою лепту в большую жизнь, пряли свою ниточку для мира, для будущего — и вот пройдет двадцать минут, и от них не останется и следа.
Вот кладут на доску двух женщин, обмывают их. Это были молодые красивые женщины, еще недавно они жили, приносили другим счастье, утешали своей улыбкой, радовали каждым своим взглядом, каждое их слово звучало как волшебная небесная музыка, всех они одаривали счастьем и радостью. Многие сердца горели любовью к ним. И вот они лежат на железной доске, и как только откроется жерло печи, они исчезнут в нем навсегда.
Теперь на доске лежат три тела. Младенец на груди у матери — сколько счастья, сколько радости испытали родители при его рождении! Радость царила в их доме, они думали о будущем, весь мир представлялся им идиллией — и вот через двадцать минут от них ничего не останется.
Лифт поднимается и опускается, он привозит все новые и новые трупы. Как на бойне, лежат груды тел — в ожидании, пока их кто-нибудь возьмет.
Тридцать печей, тридцать адских костров горят в двух крематориях. В них исчезают бесчисленные жертвы. Это продлится недолго: скоро все пять тысяч человек будут превращены в пепел.
Огонь в печах бурлит, как штормовая волна. Его зажгли варвары, убийцы — в надежде, что его светом им удастся разогнать мрак их страшного мира.
Огонь горит ровно, в полную силу, никто не пытается его потушить. Постоянно ему предают все новых и новых жертв, как будто наш древний народ-мученик был рожден специально для этого.
О великий свободный мир, увидишь ли ты когда-нибудь это пламя? Люди, остановитесь, поднимите глаза к небесам: их глубокую синеву у нас застит огонь. Знай, свободный человек: это адское пламя, в котором сгорают люди!





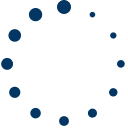
3 комментария
11 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена11 лет назад
Такой козёл имеет на мясокомбинате официальную должность, на его содержание выделяются средства. (с)
А ещё он умеет писать. Что-то по этому тексту не похож он на одного из лидеров восстания.
Удалить комментарий?
Удалить Отмена11 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена