Мифы об Оксфорде. Записки студента
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ
Моя рука сжимает листок с анонимным источником. Через сорок пять минут я должен буду держать по нему ответ перед комиссией из трех донов.
Я с трудом могу представить себе даже одного дона, но мое сознание наделяет этих существ клыками, щупальцами и перепончатыми крыльями.
Я понимаю, что это один из тех моментов, которые определят мою жизнь.
Место действия — Оксфорд. Время — середина нулевых. За тяжелой резной дверью проходят вступительные собеседования на факультет истории. Мне хочется ущипнуть не себя, а кого-нибудь другого, причем как можно больнее. Я начинаю сильно жалеть, что ввязался в эту авантюру. К тому же я воздержался от привычного ритуала с утра, и организм возмущенно требует тетрагидроканнабинола.
Кругом мрачно корпят над листочками мои непосредственные конкуренты, все как один — коренные англичане. Гулкий готический зал пропитан страхом.
Разумеется, я вообще ничего не знаю. Ни об источнике, который предстоит устно проанализировать, ни о правлении Карла I в целом. Мое смутное представление о мировой истории сводится к романам Юлиана Семенова и теории Гумилева о пассионарности. Еще меньше я знаю об Оксфорде. Мой отец — программист из Черноголовки, вот уже сколько лет работающий в интернет-кафе в Бирмингеме. В интернет-кафе.
И тут меня посещает божественное озарение. Я понимаю, что во всем зале нет ни одного представителя университета — одни перепуганные школьники, ждущие, когда их имя выкрикнут из-за двери. Я как можно спокойнее покидаю зал, пересекаю увитый плющом внутренний двор и, беспрепятственно выйдя на улицу, скрываюсь под вывеской Halal Food & Internet, продублированной арабской вязью. За полчаса в «Гугле» я успеваю найти всю основную информацию о Карле I, идентифицировать анонимный источник и усвоить вызванную им полемику между историческими школами. И вернуться к резной двери в тот самый момент, когда из-за нее слышится мое имя.
Через неделю я получаю письмо на гербовой бумаге об успешном зачислении в Оксфорд.
ОБРЕЧЕННЫЙ НА СЧАСТЬЕ
Какое-то время я еще горжусь тем, как ушлое дитя постсоветской реальности обвело вокруг пальца учреждение с тысячелетней закалкой. Разумеется, я ошибаюсь: сработали совсем другие механизмы. Чтобы объяснить, какие именно, нужно рассмотреть внутреннюю механику университета, скрытую от посторонних глаз.
Сразу отбросим аспирантов — они не являются частью оксфордского микрокосмоса. Жизнь аспиранта в Оксфорде мало отличается от жизни его собратьев по всему миру и состоит из одиночества, мастурбации и сизифова труда по болезненно узкой теме, плоды которого пять лет спустя прочитают по диагонали полтора преподавателя. Подавляющее большинство оксфордских аспирантов — иностранцы, загнанные в резервации и плотно сидящие на антидепрессантах. В столовых они сбиваются в унылые, плохо одетые стайки и трапезничают отдельно. Студент, желающий после окончания бакалавриата продолжать учиться, воспринимается как фрик. Казалось бы, почему, ведь именно аспиранты, а не студенты являются авангардом научного сообщества? Да потому, что при всех бесспорных научных заслугах подлинная миссия оксфордского образования — не академическая, а культурно-политическая и воспитывает не ученых, а кадры. Дипломатов, светских львов, банкиров, юристов, высшие армейские чины. Оксфорд — в первую очередь, инкубатор по воспроизведению английской элиты, окончательно заточенный в XIX веке под бесперебойное обеспечение Британской империи управленцами и претерпевший с викторианских времен скорее косметические изменения. Действующий глава университета — последний британский губернатор Гонконга. За последние сто лет 10 из 17 премьер-министров Великобритании окончили Оксфорд. Зачем управленцу аспирантура и шапочка-конфедератка с кисточкой? У него есть диплом бакалавра и пробковый шлем.
Остаются студенты. Традиция учит, что пробковые шлемы должны быть укомплектованы не просто светлыми головами, но светлыми аристократическими головами англиканского вероисповедания. Всё прочее — не более чем уступки реалиям деградировавшего внешнего мира, постепенно навязавшего Оксфорду католиков, нуворишей, отпрысков колониальных царьков, женщин, безбожников, цветных, средний и даже рабочий классы. Но по сути традиция сохраняется: вся система обучения и времяпрепровождения до сих пор целиком подстроена под дворянство, составляющее на сегодняшний день около 50 % учащихся. Это выпускники элитных частных школ типа Итона и Вестминстера, которых по Англии — от силы 10 % всех учебных заведений. Сто лет назад, пока Англия не лишилась имперско-аристократической гегемонии, эти школы поставляли 100 % оксфордских студентов. Но империя все равно наносит ответный удар. Навязанные извне 50 % — все эти «талантливые черные математики из неблагополучных семей» — равноправно крутятся в инкубаторе три года, напоследок гордо фотографируются с дипломом и счастливыми родителями, после чего возвращаются в ту же среду, из которой вышли три года ранее. Они пополняют ряды учителей, мелких госслужащих, офисных работников. Переезжают обратно к родителям в валийское село с невыговариваемым названием. Остаются на аспирантуру. А их недавние соседи по общежитию и друзья по фейсбуку уходят в дальнее плавание по коридорам власти. Больше они никогда не пересекутся.
Но это потом. А при ежегодном наборе студентов действуют квоты, формально примиряющие прогрессивную общественность с существованием элитарного инкубатора. На каждый курс должно быть принято как минимум столько-то иностранцев. Выпускников государственных школ. Северян. И так далее. Форсировать квоты — бессмысленно, так как это приведет к плачевным результатам экзаменов и падению рейтинга университета. Но если ты не глуп и при этом попадаешь в одну из категорий, тебя оторвут с руками. Вернемся ко мне: по стечению обстоятельств на момент подачи документов в Оксфорд я был неглупым иностранцем из небогатой семьи, выпускником государственной школы в Бирмингеме. Так что, конечно, хорошо, что я придумал зайти в интернет-кафе — есть о чем рассказать за пивом в лицах.
Но, выражаясь словами Довлатова, я был заведомо обречен на счастье.
ДВА С ПОЛОВИНОЙ ОКСФОРДА
Читателю может показаться, что я сгущаю краски, ведь и в российских вузах учится золотая молодежь вперемешку с простыми смертными. Читатель скажет, что не может быть тотальной сегрегации в рамках одного учебного заведения. Но читатель оперирует реалиями России — страны, чья потомственная аристократия была истреблена и размыта сто лет назад и чья элита берет начало в 90-х либо в советской номенклатуре. Английская же элита не менялась веками, она закреплена биологически. Достаточно вспомнить, что последнее крупное внутреннее потрясение для Англии — гражданская война семнадцатого века. С тех пор классовая система претерпела минимальные изменения, и, когда попадаешь в Оксфорд, это быстро становится очевидно. Михалковы — не династия; династия — это когда выясняется, что средневековая столовая, в которой мы обедаем, была построена в шестнадцатом веке на деньги предка моего однокурсника, что у предка была та же фамилия, которую он не преминул высечь на стене столовой и что в тех редких случаях, когда мой однокурсник ужинает в столовой, а не в ресторане, он предпочитает сидеть под данной надписью.
Отличительных черт высшей касты — бесчисленное множество. Во-первых, это пуленепробиваемая уверенность в себе (скорее спокойное сознание собственного превосходства, нежели хамоватая самоуверенность — эта вылезает только во время попоек). Во-вторых, это мгновенно узнаваемая речь: так называемое RP-произношение (в народе — Queen’s English), интонации и слова-маркеры, сами по себе подчеркивающие принадлежность говорящего к элите. В-третьих, внешний вид. Как и русского туриста в Европе, выпускника британской частной школы в Оксфорде можно безошибочно угадать со спины. Угадать по как бы небрежно и случайно, а на деле тщательно всклокоченной шевелюре, атлетическому телосложению (регби плюс гребля) и шмоткам в диапазоне от чересчур очевидных Abercrombie & Fitch / Jack Wills (низшая планка) до сшитых на заказ розовых брюк от оксфордского портного с Turl Street с желтым пиджаком, голубыми носками и антикварной тросточкой (высшая планка).
Наивные студенты из простых смертных поначалу еще пытаются завязать знакомства с верхами и даже целый месяц «для галочки» занимаются греблей, но, наткнувшись на стену из вежливого безразличия и осознав бесплодность своих усилий, быстро прекращают попытки войти в круг избранных. В присутствии высшей касты они начинают говорить невпопад, запинаться, ощущая блеклость своей речи, и переминаться с ноги на ногу в кедах из Next за 20 фунтов.
Даже маршруты, которыми передвигаются по Оксфорду феодалы и вассалы, настолько разные, что порой кажется, будто они живут в разных городах. Давайте вместе пройдемся по центру, и вы поймете, о чем я. Начнем в истинно плебейском месте — ливанской кальянной Al-Salam на Park End Street, любимом заведении местных казахов, коих великое множество. Дело в том, что — следите за руками — в городе Оксфорде находится не один университет, а целых два: знаменитый на весь мир Oxford University и ничем не выдающийся Oxford Brookes University, построенный в 90-х годах и не имеющий к именитому тезке никакого отношения. Но так как за пределами города об этом факте не знают, а между названиями города и элитарного вуза ставят знак «равно», то Oxford Brookes переполнен студентами из всех уголков бывшего СССР. По возвращении домой они могут, не привирая, сказать, что «окончили Оксфордский университет», и продемонстрировать диплом при найме на работу. Кому в Азербайджане придет в голову, что оксфордских университетов может быть несколько? Особенно в этой схеме преуспевают казахи, чье дальновидное правительство субсидирует учебу на Западе. По схожему принципу на бренде «Оксфорд» паразитируют бесчисленные языковые и летние школы, пользующиеся популярностью во всем мире исключительно из-за географической локации. Побочным эффектом этого феномена является то, что летом город превращается в рай для постпубертатного пикапа: на улицы высыпают тысячи восторженных старшеклассниц и первокурсниц — латиноамериканок, азиаток и славянок, мечтающих о том, чтобы «оксфордский студент показал им город». Ко второму курсу один мой приятель настолько обленился, что сразу расставлял точки над i: «Из Бразилии? Сейчас я покажу тебе, где снимали “Гарри Поттера”. Все равно моя комната находится в том же колледже...»
Здесь следует сделать еще одно лирическое отступление и объяснить, что такое колледж. Наиболее распространенный вопрос туриста-неофита — «а где же само здание университета?». Такого здания нет. Oxford University — это конфедерация разбросанных по городу автономных административных единиц — колледжей, — объединенных общим сводом правил и экзаменационной комиссией. Каждый студент университета приписан к одному из сорока колледжей. Здесь он ест и спит, а также общается с великими и ужасными донами — его непосредственными академическими кураторами. Колледжи отличаются друг от друга уровнем престижности, политической и сексуальной ориентацией, архитектурой и финансовым благосостоянием.
Например, в то время как консервативному колледжу Christ Church принадлежит картинная галерея с оригиналами Тинторетто и Дюрера, готический собор и отрезок Темзы, на котором проводят соревнования по гребле между Оксфордом и Кембриджем, у либерального обшарпанного колледжа Templeton не хватает денег на канцелярские принадлежности. Да-да, верхний слой академического пирога тоже страдает социальным расслоением. Welcome to the layer cake, son.
Но вернемся к нашей прогулке. Выкурив в компании казахов яблочную шишу под верещащие из колонок «Черные глаза», мы готовы идти дальше. Наискосок от Al-Salam начинается престижный район Jericho, населенный околоуниверситетской интеллигенцией — профессорами и фрилансерами. Обычно именно у этой прослойки снимают жилье потомственные аристократы, когда на втором курсе наступает время покинуть стены колледжа, дабы опериться и стать самостоятельными. Это не метафора. В колледжах к студентам по сию пору приставлен scout — обычно безукоризненно вымуштрованный, сильно пьющий пожилой англичанин, регулярно убирающий комнату и оттирающий оксфордские ковры от уже третьего поколения аристократической блевотины после светских гулянок. Мы с моим скаутом Фрэнком быстро нашли общий язык: за бутылку виски в триместр он вообще не появлялся у меня на пороге. Ну, а район Jericho набит недешевыми кафе и ресторанами. Это территория элиты, особенно Freud’s — коктейльный бар, расположенный в здании бывшей церкви. Если повезет, то здесь можно лицезреть, как очередной обладатель смокинга, будучи не в состоянии стоять, с кающимся видом ползает на коленях по тому месту, где некогда стоял алтарь.
Вообще пить Оксфорд не умеет, но пьет нечеловечески много. Это приводит к дракам. Дело в том, что, кроме ненавистных туристов, студентов из верхов и студентов из среднего класса, существует немаловажная четвертая сила, о которой часто забывают. Это стотысячное городское население, преимущественно с рабочих окраин, вот уже сотни лет обслуживающее горстку приезжих умников, живущих в баснословно дорогом центре (цены тут равносильны лондонским). Как если бы этой исходной ситуации было мало, в нулевых годах ряд оксфордских заводов, в том числе тогдашний банкрот MG Rover, провел резкое сокращение штата. Центр города моментально наполнился безработным и злым пролетариатом, топившим в пинтах «Стеллы» предчувствие неминуемого скатывания от скромного кирпично-ипотечного дома к бетонному блоку с неграми и крэком (конкретнее — в район Blackbird Leys). Давайте вырулим из тихого Jericho на пабно-барную George Street пятничным вечером, и вы все увидите сами.
Пейзаж напоминает «Войну миров» Уэллса. В воздухе стоит запах пролитого пива и разнообразных отходов человеческой жизнедеятельности. Два мента с безучастными физиономиями ведут, поддерживая за плечи, мертвецки пьяного студента, чем-то похожего на вожделенного для школьниц актера из «Сумерек». Как и подобает вампиру, его разбитый рот — в крови, порванная рубашка в темных пятнах, на голой шее болтается бабочка. Неподалеку лицом вниз, с руками, скрученными за спиной пластиковыми стяжками, лежит огромный рыжий детина в поло Lyle & Scott и, не замолкая ни на секунду, глухо ругается на неидентифицируемом диалекте; попытка транскрипции выглядит так: YE-FECKIN-CUNTS-ILL-FECKIN-KILL-YE-FECKIN-FECK. Через детину перешагивает, не обращая на него внимания, стая разногабаритных, но идентично одетых в розовое самок человека с красными рогами из плотного картона на головах. Их пронзительные визги на время заглушают ругань детины, смешиваясь с одобрительными скабрезностями с противоположной стороны улицы, где нетрезвым шагом следует в очередной паб группа молодящихся пятидесятилетних работяг в одинаковых рубашках навыпуск. Флирт и съем в пролетарской Англии возможен исключительно в серийном, массовом порядке, как коллективные свадьбы в армии Александра Македонского.
Чуть поодаль, сидя на тротуаре, плачет немыслимо пьяная городская девочка с характерными золотыми обручами в ушах; непосредственно за ее спиной трое регбистов в полосатых пиджаках частных школ мочатся на средневековую стену, параллельно с этим поедая размякшие чипсы из желтой полистироловой коробки, которую по очереди протягивает своим товарищам мочащийся посередине спортсмен. На углу маячит шпана из социального жилья в капюшонах и тренировочных костюмах; их недоброе внимание явно сконцентрировано на вызывающе дорого одетой компании первокурсников, опирающихся друг на друга вследствие предельной степени интоксикации. Невдалеке слышны сирены. Вечер начинается.
ОЧЕНЬ ГОЛУБАЯ КРОВЬ
Чтобы покинуть эту гоморру, нужно пересечь историческую Broad Street и свернуть налево, но тут мы выйдем к содому. Именно так среди студентов именуется элитарный колледж Wadham, при правильном произношении рифмующийся с Sodom: еще с восемнадцатого века, когда глава колледжа бежал во Францию в связи с обвинениями в мужеложестве, Wadham пользуется сомнительной сексуальной репутацией. Что снова приводит нас к занимательной социологии, так как негласный бисексуализм британской элиты — явление сугубо классовое и статусное. Конечно, в Оксфорде есть и открытые геи «из народа», проводящие унылые семинары и раздающие на улице радужные флажки, но это плебеи от гей-комьюнити (можно ввести в обиход новое слово — «плегеи»). Аристократия не опускается до подобных ярлыков; ее половая всеядность в духе лорда Байрона скорее подразумевается, нежели декларируется, и восходит все к тем же частным школам, в первую очередь к закрытым мужским пансионам с их традиционной дедовщиной, ритуалами инициации и повсеместным культом Древней Греции по принципу «лучше нет влагалища, чем очко товарища». Можно без преувеличения сказать, что в великосветских кругах Англии этот школьно-университетский период неразборчивости до сих пор считается естественной частью становления мужчины, так же как последующая неизбежная женитьба на благородной девице из женского пансиона с целью достойного продолжения рода. Лишь в последнее время в связи с массовым нашествием простолюдинов, не способных прочувствовать тонкости мужской дружбы древнегреческого образца, общий уровень гомоэротизма в университете резко понизился. Раньше было не так. Вспоминая 30-е годы, ирландский поэт-алкоголик Луис Макнис писал: «Я обнаружил, что в Оксфорде все интеллектуалы — гомосексуалисты, а все спортсмены — гетеросексуальны. Мне нравились женщины, но я не занимался спортом. В итоге меня нигде не приняли, и я начал пить».
Закончим нашу социологическую прогулку в самом центре, на безлико-магазинной Cornmarket Street. Здесь на расстоянии ста метров друг от друга находятся два полюса университетского мира: студенческий клуб Oxford Union и студенческий бар Purple Turtle. Хотя членство первого открыто для всех и первокурсники из низов охотно платят немалые деньги за возможность поучаствовать в проводимых клубом политических дебатах, постоянная тусовка Oxford Union предсказуемо элитарна: здесь делало свои первые шаги большинство крупных игроков британской политики — от Тэтчер до Блэра. Здесь по-прежнему пьют херес, курят сигары и обсуждают новейшие скандалы, вальяжно развалившись на кожаных диванах, просиженных поколениями властителей дум. Человеку со стороны остается выпить за барной стойкой смущенную пинту и отправиться в «Фиолетовую черепаху» по соседству. Здесь все иначе. Вход со двора, оберегаемый угрюмыми вышибалами, ведет в глубокий подвал, заполненный броуновским алкодвижением. Преимущественно это волосатые и бородатые программисты, делающие вид, что они металлисты, провинциальные английские девочки с глуповатыми татуированными бойфрендами из городских, претенциозные юноши альтернативно-веганского вида, рассыпающие по столу табак из очередной неаккуратной самокрутки, и прочие либеральные отбросы консервативного инкубатора. Тут можно пофлиртовать с блядовитого вида барменшей, посетовать на то, как быстро продалась бездушной индустрии очередная надежда инди-рока, а главное — быстро и безобразно нажраться.
Аристократы если и попадают в «Черепаху», то лишь на финальной стадии опьянения. Белая кость не презирает средний класс, она просто его не замечает. Пролетариат и деклассированные элементы как минимум интересны в той же мере, в которой английским путешественникам XIX века была интересна аномальная длина клиторов у представительниц африканских племен. Для этого сугубо викторианского любопытства и его гротескных объектов есть даже подходящее, отдающее кунсткамерой слово — curiosity (то самое, которое у Диккенса в The Old Curiosity Shop). Все, что нельзя заспиртовать и продемонстрировать своим рафинированным друзьям летним вечером на веранде родового поместья, сопроводив искрометным рассказом, не представляет ценности для элиты. Интересна либо завораживающая красота, либо патологическое уродство; либо расточительное богатство, либо чудовищная нищета. Я не цитирую Уайльда, это — дословный пересказ нетрезвой, но очень симптоматичной беседы первокурсников во время празднования бароном Н. своего совершеннолетия в пятизвездочном отеле. Внимательный читатель заметит, что, учитывая социальный статус автора, он никак не мог быть допущен к такому обществу и к таким речам. Читатель прав, но забывает о единственном факторе, объединяющем, пусть и на сверхкороткое время, нации и классы. Это наркота.
ТАКСИ НА ЧЕТВЕРЫХ ПАССАЖИРОВ
В середине 2000-х унция обычной травы, продаваемой на юге Англии по четвертинкам, приносила около 140 фунтов, а если раскидывать 10-фунтовыми пакетами — то намного больше. В то же время в существенно менее благополучном Бирмингеме унция нормального стаффа, взятого у бывших одноклассников, стоила мне 40 фунтов. Я поразмыслил над этой простой формулой, прикинул стоимость месячного проездного на рейсовые автобусы National Express и принялся за дело. Родители были рады (хоть и несколько удивлены) видеть меня каждые вторые выходные, а я мнил себя вторым Говардом Марксом, крупнейшим торговцем марихуаной 70-х, заложившим фундамент своей империи во время учебы в Оксфорде на факультете физики.
Первые два грамма я продал Алистеру, выпускнику Итона, прямо на лекции по истории, когда у того из сумки выпал гриндер. Отец Алистера был известным историком с авторской программой на Би-би-си, а в прошлом — советником Джона Мейджора. Уже начиная со второго триместра, Алистер брал у меня по пол-унции в неделю и вскоре перестал ходить на лекции. Зато он познакомил меня со своим кругом друзей, которые все были на одно лицо — кровь с молоком, взлохмаченные гривы, произношение как у Стивена Фрая, респектабельные имена — Руперт, Себастиан, Лоренс — и двойные фамилии через дефис. И у всех — предвкушение накурки в глазах.
Несмотря на то что я взял за правило толкать бирмингемское сено по 20-30 фунтов ниже стандарта, за все время среди моих покупателей не побывало ни одного представителя среднего класса. Я быстро понял, что дело не только в покупательной способности (хотя ребятам типа Алистера действительно было по большому счету по барабану, сколько платить, торговались они редко, и то лишь для того, чтобы произвести впечатление на своих девочек, обладательниц столь же тщательно всклокоченных причесок). Реальная причина была в том, что люди попроще могли сами пойти и без проблем найти дурь, полагаясь на простейшее чутье. Действительно, что тут сложного? У многих были связи с городскими и постоянные поставщики. Аристократы же оказались начисто лишены основных инстинктов, в первую очередь — навыка разговаривать с простыми людьми. Все школьные годы, изолированные от внешнего мира в пансионе среди бескрайних английских полей, они вешали на стены плакаты с листиком анаши и брали траву у одного и того же мегапопулярного одноклассника. Мир за пределами школы представлялся им опасным и экзотичным, окраины Оксфорда — чуть ли не Бронксом, а покупка пакетика плана — серьезной уличной миссией. Разумеется, мой маленький бизнес расцвел.
Моими единственными конкурентами в борьбе за состоятельную клиентуру оставались таксисты. Дело в том, что оксфордская преступность крайне эксцентрична. Если в других городах угоняют машины, то в Оксфорде — велосипеды (массово и крайне эффективно, с помощью фургонов и электропил). Одного выпускника Хэрроу при мне увезли в обезьянник за то, что он в нетрезвом виде «обвинил лошадь полицейского в гомосексуализме», и продержали до утра. С наркотой тут тоже все не как у людей. Большинство травы и таблеток продается не организованно, а кем попало вроде меня. Единственные, кто привносит в этот хаос некое подобие организованности, — это таксисты. Нужно лишь набрать номер и заказать такси для нескольких пассажиров по такому-то адресу. «Пассажир» — это четверть унции, «два пассажира» — пол-унции. Таксист приезжает по адресу и отдает нужное количество — разумеется, с дикой наценкой за быструю и остроумную доставку. Аристократы с радостью раскошеливались. Однажды друг Алистера по синей лавочке перепутал номера и позвонил в другую компанию, после чего долго пытался намеками получить стафф от недоумевающего таксиста, приехавшего действительно забрать пассажиров. Впрочем, так или иначе приторговывают все таксисты. «Нашу компанию основали два брата, Абдул и Фариз, — сказал мне один из них, когда я к третьему триместру начал шиковать и периодически ловить кэбы, — сейчас у нашей компании 80 машин. А поначалу у Абдула и Фариза не было даже одной! Они просто продавали траву, купили на эти деньги машину и начали развозить стафф. А однажды они просто подвезли кого-то и подумали: "Можно же еще параллельно и таксистами работать..."».
Однако я нашел управу и на таксистов. Два слова...
ПРЯМОЙ МАРКЕТИНГ
Продажа травы в Оксфорде — это тебе не секундная передача через рукопожатие на углу. Социальная интеракция неизбежна. Тем более что, за исключением торчков типа Алистера, стафф обычно пробивают во время вечеринок. Надо прийти, обменяться парой-тройкой малозначительных фраз с покупателем и его друзьями, произвести хорошее впечатление. В эти моменты я стал замечать, что любое мое мало-мальски адекватное высказывание на нормальном английском языке, будь то саркастическое замечание о погоде или уместная цитата из монолога полковника Курца, вызывали недоуменно поднятые брови и молчаливое недоверие высшей касты. Типа, ты же барыга, да еще и русский, ты чего это? Ты куда лезешь? И напротив — стоило мне ошибиться в произношении или спросить вполголоса «а где здесь туалет?», как в ответ следовал приветливый хохот, похлопывания по спине, приглашения выпить с хозяевами и обилие новых контактов. Я начал врубаться в тему. Им нужен был не просто поставщик травы, а curiosity — вызывающий интерес объект, который можно продемонстрировать скучающим друзьям: русский барыга, да еще из Бирмингема!
Спрос рождает предложение. Я побрил голову налысо. Купил кожанку. Прошел хитрую обратную эволюцию по восстановлению потерянного за годы жизни в Англии убедительного русского акцента. Для верности приобрел в Бирмингеме партию колес (50 пенсов за штуку при оптовой покупке ста таблеток; 5 фунтов за штуку при розничной продаже в Оксфорде). Перестал говорить о политике и погоде. Перестал использовать латинизмы в речи. Взял за правило часто рыгать, материться по-русски и рассказывать бесконечные непристойные анекдоты. Если бы в Оксфорде можно было достать балалайку и циркового медведя, я бы и им нашел применение. Я был в ударе. Я был квинтэссенцией русофобского лубка.
Успех превзошел все ожидания. Через месяц я понял, что не справляюсь с количеством работы, а оборот денег и травы становится небезопасным. Об учебе речь не шла уже давно (к счастью, на втором курсе нет экзаменов). Для обдолбанных регбистов я был свой в доску русский парень. Для их подруг я был charming creature, особенно когда пускал паровозы. Жеманные эстеты с расширенными зрачками, нарочито игравшие в героев Ивлина Во, жаловались мне на своих ветреных бойфрендов. И все хотели дуть. Я узнал, кто с кем спит и чья семья на грани банкротства. Постоянно прописался в Oxford Union, не заплатив ни копейки за членство. Я побывал даже там, куда не ступала нога выпускника государственной школы, — в святая святых английской аристократии, в загородных домах, на закрытых вечеринках типа А (эротизированный маскарад) и В (попойка с последующим уничтожением имущества — пригласили, когда прошел слух про таблетки). На знаменитых закрытых вечеринках типа С (разнузданная оргия) я не побывал лишь потому, что не продавал кокаин — намного более популярное вещество в данных кругах. Быть может, именно там и происходило все самое интересное, в духе кровавых оккультных ритуалов, описанных конспирологом Дэвидом Айком в его цикле статей об Оксфорде. Если честно, то я очень сильно на это надеюсь. Потому что то, что мне удалось увидеть в процессе моего неожиданного социального взлета, было обыденно до ужаса. Большое количество пьяных и упоротых тел, находящееся на ограниченном пространстве, лишено национальной и классовой специфики. С какого-то момента это просто биомасса, не отличающаяся от пьяных казахов из Al-Salam и неряшливых субкультурщиков из Purple Turtle. Я был разочарован. Недостижимый центр оксфордского мироздания оказался пустышкой. Лучше бы аристократы действительно ели детей.
К третьему курсу мы с британской элитой нечеловечески устали друг от друга.
P. S.
Я стою на крыльце Exam Schools, одетый в допотопную черную мантию выпускника, и докуриваю последний грамм бирмингемской травы. Моего поставщика посадили. Алистера отчислили. Я сдал экзамены и получил третью степень — худший из оксфордских дипломов. Разумеется, вне Оксфорда данная иерархия никого не волнует. Слова «диплом Оксфорда» и так вызывают священный трепет.
Говорят, что образование — это то, что остается, когда забываешь все, чему учили. Чему меня научил Оксфорд? Узнавать аристократов со спины. Продавать траву. Играть в оперетточного русского. Научил тому, что социальная сегрегация — это правильно и хорошо. Я по-прежнему не обладал какими-либо значимыми связями в английской элите. По-прежнему не имел ни малейшего понятия о том, кем был Карл I. Зато я понял, что у меня действительно хорошо получается.
В следующей жизни я поступлю в Лондонскую школу экономики.
Источник:


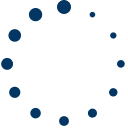
11 комментариев
10 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена10 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена10 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена