Личное дело Натана Стругацкого
Эти четыре года Натан Залманович, отец великих фантастов Аркадия и Бориса Стругацких, проработал в Публичке, ставшей его последним местом работы.
Увы, Аркадий и Борис не застали находку: первый умер в 1991 году, второй — в 2012-м. Об их отце Натане Залмановиче было известно немногое. Вот что вспоминали о родителях сыновья.
Аркадий Стругацкий:
«Семья наша была несколько необычной даже по меркам тогдашнего необычного времени — первого десятилетия после победы Великой Революции.
Наш отец, Натан Стругацкий, сын провинциального адвоката, вступил в партию большевиков в 1916 году, участвовал в Гражданской войне комиссаром кавалерийской бригады и затем политработником у замечательного советского полководца Фрунзе, после демобилизации работал партийным функционером на Украине, причём специальности он был искусствоведом, человеком глубоко и широко образованным.
Мать же, Александра Литвинчева, была дочкой мелкого прасола (торгового посредника между крестьянами и купцами), простой, не очень грамотной девушкой.
В родном городке на северо-востоке Украины она встретилась с Натаном Стругацким, вышла за него замуж против воли родителей и, как водится, была проклята за мужа-ев-рея. В дальнейшем судьба их сложилась интересно и поучительно, при всех её поворотах они верно и крепко любили друг друга».
Борис Стругацкий:
«Я почти не помню отца. Всё, что я знаю о нём, известно мне от мамы, в частности — из оставленных ею воспоминаний…
В 1936 году он назначен был «начальником культуры и искусств города Сталинграда». (Видимо, заведующим отдела культуры то ли горкома партии, то ли горисполкома.) Здесь в 1937 году его исключили из партии. Как я теперь понимаю — чудом избежал ареста и уничтожения, ибо сразу же уехал в Москву хлопотать о восстановлении и хлопотал об этом всю оставшуюся жизнь. В июне 1941-го пришёл в военкомат, но в действующую армию его не взяли — 49 лет и порок сердца. А в ополчение — взяли, уже в конце сентября, когда блокада стала свершившимся фактом, и он успел ещё повоевать на Пулковских высотах, но в январе 1942-го был комиссован вчистую — опухший от голода, полумёртвый, с останавливающимся сердцем…»
В «Личном листке по учёту кадров» Натан Стругацкий пишет, что до апреля 1937 года был членом ВКП (б), а исключён был за «притупление политической бдительности».
В таблице «перемещения по службе после Октябрьской революции» множество строк. Стрелок и политкомиссар в продотряде в 1918—1919 годах, инструктор, военспец и начальник агитпропа в Особом отделе 5-й кавалерийской дивизии СКВО в 1919—1925 годах, редактор газеты «Трудовой Аджаристан» в 1925—1926 годах (тогда, в Батуми, 28 августа 1925 года родился Аркадий Стругацкий), зам. завотделом печати Ленинградского обкома ВКП (б), лектор Облоно, завотделом в Русском музее в 1930—1932 годах, аспирант Института литературы и искусства, научный сотрудник института…
Стругацкий пишет в автобиографии, что «с трудом поступил в среднюю школу (процентная норма для евреев), с начала революции — на разнообразной советской, политической и иной работе». Что в продотрядах занимался «сбором развёрстки и подавлением кулацких выступлений», а в Красной армии — «на политработе, преимущественно».
Его «притупление политической бдительности» заключалось, по словам Натана Залмановича, «в засорении аппарата Управления искусств врагами народа». И он добавляет: «кстати, направленными на работу в Управление решением бюро крайкома».
Он «апеллировал в КПК (комиссия партийного контроля, уже Далеко не все помнят эту аббревиатуру. — Б. В.) на это неправильное решение, вынесенное бюро Обкома, часть членов которого разоблачены, как враги народа» (замените «врагов народа» на «иностранных агентов» — и увидите, как современно это звучит. — Б. В.).
В личном деле множество документов, свидетельствующих о попытках Натана Стругацкого восстановиться в партии. Попытки были безуспешны, хотя Стругацкий ещё несколько раз ездил в Сталинград (следы этих поездок есть в личном деле), а потом и в Москву, в саму КПК.
22 июня 1941 года начинается Великая Отечественная.
В октябре Натан Стругацкий уходит на фронт — добровольцем, в истребительный батальон НКГБ Куйбышевского района. Почти два месяца он воюет на Ленинградском фронте. После чего его комиссуют вчистую. И 20 декабря 1941 года замдиректора ГПБ Марин подписывает распоряжение: «Тов. Стругацкого Н. З. считать восстановленным на работе в связи с увольнением из воинской части»…
В январе 1942 года в осаждённом городе наступило самое тяжёлое время. Позднее Стругацкие вспоминали:
«Мать и Борис кое-как ещё держались, а отец и Аркадий к середине января 42-го были на грани смерти от дистрофии. И тут открылась возможность уехать вместе с последней партией сотрудников Публичной библиотеки, которые не успели эвакуироваться вместе с библиотекой ещё осенью в город Мелекесс (ныне Димитровград, город в Ульяновской области. — Б. В.).
В семье считалось, что малолетний Борис (ему тогда было восемь лет. — Б. В.) эвакуации не выдержит, и потому заранее решено было разделиться: отец и Аркадий уедут, мать и Борис останутся».
«Всё произошло внезапно, — писала в своих воспоминаниях Александра Ивановна, мать писателей. — Паровоз был уже под парами. Когда я вернулась с работы, их уже не было. Один Боренька сидел в темноте — в страхе и в голоде».
«Мне кажется, я запомнил минуту расставания: большой отец, в гимнастёрке и с чёрной бородой, за спиной его, смутной тенью, Аркадий, и последние слова: «Передай маме, что ждать мы не могли.» Или что-то в этом роде», — вспоминал Борис Натанович.
Предпоследний документ из «Личного дела Натана Стругацкого» — удостоверение, выданное для эвакуации и. о. директора ГПБ Егоренковой.
«Дано настоящее тов. СТРУГАЦКОМУ Натану Залмановичу в том, что он направляется на работу в отделение Гос. Публичной Библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в г. Мелекесс по собственному желанию, без права получения подъёмных, суточных и проездных средств».
А последний документ — выписка из «Списка умерших граждан, эвакуированных из гор. Ленинграда», где значится «Стругацкий Натол Заиманович (простим опечатки), 50 лет, умерший 7 февраля 1942 года и похороненный в Горбачевском».
Вот что вспоминал Борис Натанович:
«Они уехали 28 января 1942 года, оставив нам свои продовольственные карточки на февраль (400 грамм хлеба, 150 граммов «жиров» да 200 граммов «сахара и кондитерских изделий»). Эти граммы, без всякого сомнения, спасли нам с мамой жизнь, потому что февраль 1942-го был самым страшным, самым смертоносным месяцем блокады. Они уехали и исчезли, как нам казалось тогда — навсегда. В ответ на отчаянные письма и запросы, которые мама слала в Мелекесс, в апреле 42-го пришла одна-единственная телеграмма, беспощадная, как война: «НАТАН СТРУГАЦКИЙ МЕЛЕКЕСС НЕ ПРИБЫЛ». Это означало смерть. (Я помню маму у окна с этой телеграммой в руке — сухие глаза её, страшные и словно слепые.) Но 1 августа 42-го в квартиру напротив, где до войны жил школьный дружок АН (Аркадия Стругацкого. — Б. В.), пришло вдруг письмо из райцентра Ташла, Чкаловской области. Само это письмо не сохранилось, но сохранился список с него, который мама сделала в тот же день».
Натан Стругацкий похоронен в Вологде, где — до сих пор точно не установлено. Скорее всего, это район Пошехонского шоссе.
Список умерших граждан, эвакуированных из Ленинграда. Натан Стругацкий записан под номером 62 как Струрецкий Натол Заиманович.
Из письма Аркадия Стругацкого матери:
«Здравствуй, дорогой друг мой! Как видишь, я жив, хотя прошёл, или, вернее, прополз через такой ад, о котором не имел ни малейшего представления в дни жесточайшего голода и холода. <.> Мы выехали морозным утром 28 января. Нам предстояло проехать от Ленинграда до Борисовой Гривы — последней станции на западном берегу Ладожского озера. Путь этот в мирное время проходился в два часа, мы же, голодные и замёрзшие до невозможности, приехали туда только через полутора суток. Когда поезд остановился и надо было вылезать, я почувствовал, что совершенно окоченел. Была ночь. Кое-как погрузились в грузовик, который должен был отвезти нас на другую сторону озера (причём шофёр ужасно матерился и угрожал ссадить нас). Машина тронулась. Шофёр, очевидно, был новичок, и не прошло и часа, как он сбился с дороги и машина провалилась в полынью. Мы от испуга выскочили из кузова и очутились по пояс в воде (а мороз был градусов 30). Чтобы облегчить машину, шофёр велел выбрасывать вещи, что пассажиры выполнили с плачем и ругательствами (у нас с отцом были только заплечные мешки). Наконец машина снова тронулась, и мы, в хрустящих от льда одеждах, снова влезли в кузов. Часа через полтора нас доставили на ст. Жихарево — первая заозёрная станция. Почти без сил мы вылезли и поместились в бараке. Здесь, вероятно, в течение всей эвакуации начальник эвакопункта совершал огромное преступление — выдавал каждому эвакуированному по буханке хлеба и по котелку каши. Все накинулись на еду, и, когда в тот же день отправлялся эшелон на Вологду, никто не смог подняться. Началась дизентерия. Снег вокруг бараков и нужников за одну ночь стал красным. Уже тогда отец мог едва передвигаться. Однако мы погрузились. В нашей теплушке, или, вернее, холодушке, было человек 30. Хотя печка была, но не было дров. < .> Поезд шёл до Вологды 8 дней. Эти дни, как кошмар. Мы с отцом примёрзли спинами к стенке. Еды не выдавали по 3−4 дня. Через три дня обнаружилось, что из населения в вагоне осталось в живых человек пятнадцать. Кое-как, собрав последние силы, мы сдвинули всех мертвецов в один угол, как дрова. До Вологды в нашем вагоне доехало только одиннадцать человек. Приехали в Вологду часа в 4 утра. Наш эшелон завезли куда-то в тупик, откуда до вокзала было около километра по путям. Страшный мороз, голод и ни одного человека кругом. Только чернеют непрерывные ряды составов. Мы с отцом решили добраться до вокзала самостоятельно. Спотыкаясь и падая, добрались до середины дороги и остановились перед новым составом, обойти который не было возможности. Тут отец упал и сказал, что дальше не сделает ни шагу. Я умолял, плакал — напрасно. Тогда я озверел. Я выругал его последними матерными словами и пригрозил, что тут же задушу его. Это подействовало. Он поднялся, и, поддерживая друг друга, мы добрались до вокзала. Больше я ничего не помню. Очнулся в госпитале, когда меня раздевали. Как-то смутно и без боли видел, как с меня стащили носки, а вместе с носками кожу и ногти на ногах. Затем заснул. На другой день мне сообщили о смерти отца. Весть эту я принял глубоко равнодушно и только через неделю впервые заплакал, кусая подушку…»
Источник:



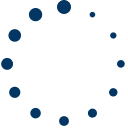
4 комментария
5 лет назад
И спас матерящегося мальчика...
Ну... пусть это останется на совести мальчика.
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена5 лет назад
Ну и полный фарш продразверстка, расправы над крестьянами, комиссарство, политручество, непыльная синекура при горкоме в крупном промышленном городе. Еще малопонятные телепортации между Сталинградом, где он вроде как бы работал, Москвой, где как бы искал правду, и, неожиданно, Ленинградом. Все-таки точную причину исключения из партии в деле должны были указать в копией резолютативной части партсобрания.
Удалить комментарий?
Удалить Отмена