Портрет охотника
Более работящих людей я не встречал. Пребывание в тайге было для него праздником, а охота — любимым делом, не мешая оставаться прекрасным плотником, столяром, жестянщиком, механиком, рыбаком, скотником, крестьянином и просто отличным товарищем. Мало того, что он все умел, он ощущал себя носителем этого уменья, и поэтому всегда охотно помогал советом, причем как бы с запасом, с избытком и огорчаясь, если совет оказывался кому-то не по плечу. Был он лучшим охотником района, гвардейцем промысла, не курил, почти не пил, но не пропускал ни одного сборища охотников и всегда сидел до утра, терпя и дым, и шум ради общения с товарищами.
Был он среднего роста, с неширокими покатыми плечами, но под рубахой невероятно крепкий и весь обложенный мощными короткими мышцами. У него были серые, немного слезящиеся глаза в розоватых веках и горбина-шишка на носу, след от травмы, придающая его русобородому лицу некоторое сходство с сохатым, которых, он, не жалея ног, бил много лет на своем богатом ельниками и осинниками участке. Ладно скроенный, он будто в благодарность за это и сам все делал отлично — основательно, красиво и с эдаким оттягом в движениях, любил, не глядя, даже не метнуть, а отпустить нож или топор в доску.
Когда первый раз мы встретились, я, сопя, тащил на реку свежесобранный мотор, и Гена одобрительно сказал: "Таскай-таскай, потом он тебя таскать будет". Говорил он низким грубоватым голосом, всегда кратко, всегда по делу и всегда подходя к вопросу с неожиданной стороны.
Он держал двух коров, рыбачил, добывал больше всех пушнины, растил трех сыновей, которых грозно называл "лоботрясами", и без конца переделывал печку в бане, добиваясь пара, никогда его не устраивавшего. Был он вечно в работе, разрывался между хозяйством и тайгой, чувствовал хребтом каждый ушедший день жизни и не знал покоя, а только видел, что постоянно с чем-то без толку борется, то с часто не понимающей его женой, то с начальством, то с радикулитом. Однажды он поссорился с женой под Новый год и ушел в тайгу, где провел праздник в полном одиночестве. Мы с товарищами собирались поздравить его по рации, но закрутились и забыли, и было стыдно, хоть мы и знали, что он не обидится. Через несколько дней мы гуляли у Игоря Агафонова, а когда вышли на улицу дыхнуть свежего воздуха, увидели в сгущающихся сумерках небольшую фигуру с карабином, идущую вперевалочку на широких лыжах. Не дав опомниться, мы затащили Гену в избу, заставили выпить коньяка, и он сидел у стола, скусывая льдышки с усов, с красными от ветра глазами и смущенной улыбкой непьющего человека.
Дерево он видел насквозь, умел несколькими ударами топора освободить таящиеся в нем силы и использовал для дела любой сучок. Помню, как рявкнул он на старшего сына за то, что, когда мостили через ручей переправу для "Бурана", Денис отхватил топориком лишнюю ветку от елочки, а каждая ветка, обрастая льдом, дает дополнительную опору.
Плохо знавшие Гену считали его расчетливым и прагматичным куркулем, и тому причиной были некоторые его черты. Придя за чем-то к человеку, Гена с порога и без проволочек говорил, что ему надо, а не мялся, не заводил рака за камень, спрашивая, как делишки-ребятишки и так далее. Действительно, в работе он был трезвым и разумным человеком, но трудно быть иным, имея в ведении такой сложный механизм, как огромный, в полторы тысячи квадратных километров, охотничий участок. Как всякий, он делал ошибки и не стыдился в них признаваться, рассказывая о них с обстоятельным удовольствием.
Его первый охотничий сезон начался с того, что они с напарником, которого он привез с собой из-под Канска, забыли в вертолете топоры и им пришлось выходить за две сотни верст в поселок. Причем напарник отказался заезжать обратно, заявив, что "барсука он, похоже, здесь не добудет", а Гена отохотился один, высидев в тайге до середины марта.
Гена считал, что охотник должен уметь все, что "охотники — самые сознательные люди", и в трудную для поселка минуту умел без проволочек и разговоров организовать работу. Главное его отличие от большинства людей состояло в том, что он жил как бы без пелены в глазах и поэтому ясно смотрел на вещи, и эту ясность многие и принимали за рассудочность. При этом он и сомневался, и противоречил себе, и любил что-нибудь сказать для красного словца, рассуждая о всяких несусветных способах ухода от рыбнадзора, какими сам никогда не пользовался, ценя их лишь за игру фантазии (вроде выкинутой с кормы веревки, которая должна намотаться на вражеский винт).
Как многие охотники, сами выбравшие себе профессию, Гена в детстве прочел прорву книг об охоте, тайге и животных, и живя полнокровнейшей настоящей жизнью, умудрялся смотреть на нее чуть-чуть сбоку, глазами, что ли, писателя и самого себя в каком-то смысле ощущать героем книги. Больше всего он любил романы о покорении Сибири. Перечитывая один из них из года в год, находя в нем для себя все новое и новое, он и сам чувствовал себя первопроходцем, и больше всего на свете любил открывать новые места. Срубить избушку, обжить тайгу и через год дивиться ощущению, что ты тут ни при чем и избушка здесь сто лет. Несколько раз он копал огороды на левом берегу Енисея, наслаждаясь чувством воли, когда можно приехать и, не спеша отсчитав шаги, небрежно отметить лопатой границу поля под картошку. Огород этот просуществовал только год, чем-то он ему не пришелся, но я думаю, на самом деле он искал не выгоду, а просто удовлетворял свое чувство хозяина и первопроходца, точно так же, как все искал новые покосы и однажды косил на крутых берегах своей речки, где была отличная трава, густая, сочная, но слишком обильная пыреем. Вообще Гена никогда не стоял на месте и в работе постоянно нащупывал и пробовал новое, смело отказываясь от неудачного опыта.
Подходя к работающему со срубом человеку, он кричал: "Здорово, плотник, хренов работник!" Плотник был он высочайшей квалификации, пазы у него имели идеально овальную форму, причем он работал одинаково хорошо и топором и прямым теслом. Вообще умел он очень многое, не было такого вопроса мужицкой жизни, который бы он не знал, и если даже сам он не делал чего-нибудь, то или видел, как это делается, или слышал и понимал. Ни на один вопрос он не отвечал однозначно, а сразу начинал рассказывать о нескольких методах, перечисляя недостатки и преимущества каждого, касалось ли это старинных способов заготовки теса ручными пилами, добыванья дегтя, снятия бересты целиковой трубой для туесов или же крытья крыш еловым корьем или корытником — осиновым желобьем.
Работать поначалу с ним было трудно, потому что он время от времени поглядывал на твой топор или косу, на то, как ты что делаешь, и обязательно делал замечания, так что приходилось запасаться терпением и несколько дней преодолевать ватную неуклюжесть движений, сразу появлявшуюся в присутствии таких людей, даже если раньше казалось, что знаешь дело в совершенстве. Надо отдать Гене должное, он умел очень хорошо указывать ошибки, обычно это касалось угла наклона инструмента или направления усилия, и мог несколькими четкими словами объяснить, как надо делать, и потом, убедившись, что ты делаешь правильно, уже больше не приставал, а даже говорил другим, указывая на тебя, вот, мол, знай наших.
Он всегда так говорил о работе, что даже если у тебя было самое плохое настроение, то сразу начинало хотеться срубить огромный дом, жениться на домовитой соседской дочке и держать трех коров.
Он всегда говорил: "Строй, я тебе инструмент дам, шифер — потом вернешь". Еще он говорил: "Я тебе историю для рассказа отличную вспомнил". Однажды я спросил его: "Всю жизнь гадаю — почему люди пьют?", на что он ответил: "А это у человека натура, видать, такая тягучая. Как во что ввяз, в покос ли, в стройку, в рыбалку, так уж в нем по горло и сидишь, хотя сначала вроде и чудно было. Вот и с пьянкой то же. А вообще, не ломай ты голову". Мои рассказы о деревенской жизни он одобрял, а то, что я писал про город, не любил и говорил, что любую книжку открой — там то же самое. Еще он не мог понять, почему для того, чтобы написать рассказ, надо выходить из привычной жизни, запираться и доводить себя до полного отупения, почему в ожидании трактора нельзя что-нибудь писать в записную книжечку и вообще зачем противопоставлять одно занятие другому.
Любил он охотничью, плотницкую, крестьянскую старину, и, казалось, все время помнил о тех, кто изобретал, опробовал все эти, пришедшие из старины, способы работы и чувствовал в себе ответственность за них, будто всегда перед его глазами стоял какой-то старинный охотник или плотник, перед которым совестно, если погибнет дело и все, на что тот положил жизнь, станет ненужным. Впрочем Гена понимал, что скоро оно примерно так и будет, и это придавало особую горечь его жизни. Косяки, оконные блоки и рамы — все делал он сам, ненавидел все заводское и презирал шабашников, со страшной скоростью возводящих по всей России казенные коробки.
Гена все делал быстро и хорошо, перед этим не говорил, не разводил планов, вот, мол, хочу то-то и то-то, как некоторые люди, которые все что-то планируют, задумывают, но так много и долго об этом говорят, что, заранее прожив и проболев в разговорах все дело, так за него и не берутся.
Я частенько ходил к Гене в гости и сидел у него допоздна, а когда вставал, он тоже накидывал фуфайку и выходил на улицу, где сыпался мельчайший снежок из вымороженного неба и мигали на все лады зимние звезды. Раз я сказал, что бывает на душе вялость, когда ничего не охота и делаешь все через силу и без любви, а бывает наоборот, — все горит в руках, и Гена вздохнул, посмотрел на темное небо и сказал: "У меня та же ерунда. Это, знашь ли, в космосе что-то..." С Геной, чего ни коснись, выяснялось, что ты знаешь только самую верхнюю часть вопроса, а он как бы продолжал его вглубь, и оказывалось там столько очевидных тонкостей, что становилось стыдно за свою темноту и тупоголовость. Однажды зашла речь об обуви, и я заикнулся об уральских поршнях, которые очень похожи на бродни, в которых ходят зимой енисейские охотники. Оказалось, Гена про них знает, очень верно описал их и даже рассказал, опять продолжив и углубив тему, что в пятку втыкаются и отламываются деревянные иглы-пятники (чтобы она не скользила), а в задник, чтобы он не сминался, вставляется береста. А матерчатая голяшка пришивается сверху, чтобы в теплую погоду, особенно весной, тающий снег не подтекал внутрь. И так он все это рассказал, что ясно виделась и скользкая снежная тропинка осенней оттепелью, по которой усталый охотник поднимается от реки к избушке, и как тает, паря, под весеннем солнцем снег на выцветшей брезентовой голяшке и блестит в складке лужица воды.
Заходила ли речь о лабазах, нарточках, о способах установки капканов, о плашках или кулемках, всегда он предлагал несколько вариантов той же нарточки или лабаза и как бы сразу переводил разговор в совершенно другой объем, где ему не было равных.
Он знал, где какая природа, в Мурманской ли области, на Вологодчине, на Урале, в Саянах, на Алтае или в Приморье, представлял, как в каких местах приспосабливаются мужики к условиям жизни, и бесконечно гордился за мужицкую универсальность и выносливость.
Очень любил всякие истории, например про мужика, который однажды неплохо добыл рыбы в сеть и постоянно рассказывал, все время преувеличивая, и когда количество рыбы выросло до несметных центнеров, мужики взмолились и сказали: "Василич, поимей совесть", на что он ответил: "Года идут, счет растет". Любимый его рассказ был такой: сидит мужик, пожилой уже дед, в тайге. Прилетает к нему охотовед осенью. А тот вместо того чтобы "капканья поднимать" строгает рубаночком стол. Охотовед говорит: "Что же ты, Кузьмич, все мужики уже настораживают вовсю, а ты как пень в зимовье сидишь и не шевелишься", а тот отвечает: "Мое, паря, от меня не уйдет". Потом Кузьмич приносит в контору жалких пять соболей, охотовед опять что-то говорит неприятное, а Кузьмич веско отвечает: "Всего, паря, не охватишь".
Поссорившись с женой, Гена уходил жить в мастерскую. Раз у него не было чая, я сходил за чаем, а Гена сгреб со стола ключи и отвертки, нарезал хлеб и вывалил пласт малосольной осетрины. Положив на хлеб кусок рыбы, откусив и запив чаем, он сказал задумчиво и с какой-то непреходящей тихой гордостью: "Какая все-таки у нас, у мужиков, неприхотливость".
Неприхотливости, терпеливости да и вообще здоровья было у него не занимать. Как-то он покупал на самоходе муку, и самоходские мужики, заинтересовавшись медвежьей шкурой, пошли к нему домой. Подниматься надо было по лестнице на высоченный угор, Гена с семидесятикилограммовым мешком, поднимаясь, продолжал о чем-то бодро рассказывать, в то время как оба пароходских, кряхтя и отдуваясь, еле за ним поспевали.
Вообще жизнь охотников в тайге не так благополучна, как кажется. По Бахте (реке) до нас с Анатолием прежде охотился Саня Устинов. Он рассказывал, как со своим напарником, остяком Иваном Лямичем, они однажды целый день гоняли сохатого, и Саня досадным образом упустил зверя, а когда они притащились в избушку, туберкулезник Иван стал от усталости харкать кровью. Однажды Саня сам чуть не погиб от аппендицита. Рация, как обычно, была на Холодном, а прихватило его совсем в другой стороне. Он ковылял оттуда несколько дней, пришел ночью и чудом застал на связи охотника из соседнего поселка. Вылетел вертолет, Саня пошел его встречать на Бахту, и его нашли в снегу без сознанья с тускло горящим фонариком в руке. В каждой избушке у него висело по школьной тетрадке. В такой тетрадке красивым почерком было записано, что такого-то числа охотник Устинов пришел с Холодного, (не видал ни следушка), а такого-то ушел на Хигами, мороз столько-то градусов. Но особо запомнилась мне другая запись. Она кончалась словами: "пишу стоя на коленях, жалко мало пожил".
Старший сын Денис, которого Гена с детства готовил в тайгу, в напарники, и которому мечтал в конце концов передать участок, был здоровый, гладкий и очень медленно все делавший парень. Мать его обожала, и из-за Дениса у Гены были с ней постоянные споры. Он делал из сына неприхотливого, крепкого духом и телом мужика, а Зина, для которой он навсегда остался маленьким, все переживала за него и все время ругала Гену за то, что тот холодно одет или не накормлен. Настоящая драма началась, когда Гена стал забирать Дениса из старших классов школы в тайгу на промысел. Зина была против, против было школьное руководство, и Гена, со всеми переругавшись, сделал по-своему и забрал сына.
Как-то года за два до этого я зашел к Гене, а у того в сенях стояли новые оклеенные камусом лыжки — для Дениса, а сам он сидел и дошивал маленькие, будто игрушечные, бродешки. Все: и лыжи и бродни — было смешное, маленькое и какое-то необычайно добротное, и чувствовалась в этом во всем великая забота и надежда на сына.
Серебристым осенним деньком я помогал им грузиться в тайгу. У берега стояла, покачиваясь, длинная деревянная лодка кержацкой работы, пригнанная Геной с Дубчеса. На гальке у горы груза скулили на цепочках собаки.
Гена, ворча на "вареного" Дениса, долго укладывался, переставлял по лодке ящики и мешки, до тех пор, пока все не легко ладно и удобно, укрытое и подоткнутое брезентом.
Пассатижи помимо обычных дел нужны для работы на путике с капканами, цепочками, проволокой. Когда почти погрузились, Гена вдруг грозно спросил: "Денис! Ты пассатижи взял?" Денис промямлил что-то вроде: "А я думал, ты взял", а Гена сказал, что, ясно море, взял, но с в о и и в сотый раз стал объяснять, что у них есть общие вещи, и есть те, которые каждый должен собирать себе сам. Подниматься на высоченный угор они уже не собирались, но Гена, настояв на своем, все-таки послал Дениса домой за е г о пассатижами, и когда тот нехотя пошел, косолапо загребая сапогами песок, хитро подмигнув, вытащил из потайного места и покрутил передо мной третьи, запасные, пассатижи.
В тайге у Дениса случилось воспаление глаза, начавшееся с простого ячменя, которое разрослось и перешло внутрь черепа. Гена все пытался выходить сына своими силами, все тянул до последнего с вызовом санзаданья, и Денис было поправился, но потом все началось сначала и вертолет пришлось вызвать. Никогда еще Гена не был в таком сложном и трагическом положении: сын, слабеющий на его глазах, Зина, кричащая по рации, плачущая и ругающая его на чем свет стоит ("Я тебе говорила, я знала, что все так и будет!"), злорадство учителей, а главное — его вина и его ответственность за все произошедшее. Зина возила сына в Красноярск, где ему вскрывали череп, а Гена сидел в тайге, и ловились соболя, и ему было наплевать на них, и он думал о том, что ничем не может помочь сыну. Парня спасли, и на следующий год отец снова взял его в тайгу, и в общем все образовалось.
Трудно говорить об этой истории, и я не уверен, что Гена будет доволен, увидав эти строки, но я думаю, что говорить об этом надо, чтобы люди не думали, что нет никакой другой жизни, кроме городской. По дороге из хребтовых избушек к базовой, где была радиостанция, их прихватил снегопад, а они были без лыж, и меня поразило, что Денис, которого шатало от температуры и от боли во всей голове, вымотался до самой последней степени усталости и вдруг сказал отцу: "Папа, яблок хочется". Надо ли объяснять, что такое яблоки для мальчика-северянина и что Гену эти слова поразили еще больше. Во мне же они всколыхнули целое море каких-то далеких и родных ощущений, я почему-то вспомнил, как умирающий Пушкин попросил моченой морошки. Видимо, для русского человека, попавшего в беду, подобные слова имеют какое-то особенное значение.
Годы спустя мы не раз говорили с Геной об этом происшествии, и я, уже чисто писательски чуя в нем большую глубину, сказал Гене бестактность, что, мол, "отличная, вообще-то, история", и хотя Гена понял, что я имел в виду ее отвлеченную способность лечь в основу какой-нибудь повести, он сказал: "Тяжелая, вообще-то, история".
Как высокий профессионал в своем деле, он нутром чувствовал родственную смежность всех профессий. Несмотря на весь его тяжелый потный труд, у него было возвышенное отношение к природе и своему делу и он безоговорочно поддержал бы любого, кто решился бы это воспеть, поэтому он интересовался моими писаниями и даже давал дельные советы. У него, безусловно, был врожденный художественный вкус. Он обожал меткие и сочные выражения, парадоксальные ситуации и когда в одной фразе заключается психологическая характеристика человека или даже целого сословия. Рассказывал он про мужика кулацкого склада, которого должны были вот-вот арестовать. Он попросил другого мужика ночью отправить его на плоту или на лодке, за что отдал одну из своих многочисленных собак. Собака оказалась великолепной в работе, и ее новый хозяин много лет спустя, рассказывая Гене эту историю, все повторял: "И ведь это он мне самую худшую отдал!" Гена от этой фразы просто светился от удовольствия.
Он все мне советовал написать книгу о среднерусском крестьянине, сосланном в Сибирь на поселение.
Этот крестьянин готовился чуть ли не к гибели, а приехав на место и увидев сибирское раздолье, едва ли не спятив от изобилия зверя и рыбы, благодарит судьбу за подарок и, засучив рукава, берется за дело.
В тайге Гена время от времени сочинял стихотворения. Было там одно, начинающееся словами: "Треугольник гусей серых улетает вдаль", и говорилось в нем о горечи уходящей жизни. Он обычно напевал это стихотворение, глядя в пол, и эта мужественная грусть сильного человека действовала сильнее любой сладкой лирики. было у него еще стихотворение о прекрасной таежной жизни, о снежной завесе над синей далью хребтов, которую озирает стоящий на вершине сопки охотник, о поскрипывающей за плечами поняге — черемуховом станочке, от которого в сырую и теплую погоду невозможно и терпко пахнет весной, об охотничьем братстве и о том, как под конец промысла хочется домой, к детям, к жене, в совсем другой теплый мир, который важен и нужен не меньше таежного, и о том, какую большую и сильную душу надо иметь, чтобы вмещать в себя оба этих мира.
Я хорошо представляю, как стоял Гена на вершине сопки: однажды по осени, забравшись на водораздельную триговышку, я оказался высоко над тайгой на круглой дощатой площадке. Мне открылась грозная и прекрасная многокилометровая даль. Поскрипывали на кованых гвоздях иссохшие опоры вышки, свистел ветер, и вздымались на восток увалы, хребты, сопки — треугольные, круглые, плоские, как наковальня, и синели тучи, клубились снеговые облака, где-то шел снег, и где-то язык снегопада загибало ветром, и все это громоздилось, двигалось и сквозило, прошитое серебряным веером солнечных лучей. И стоя на ветру, под скрип вышки, под крик кедровки и шум тайги снова думал я об отчаянной трудовой жизни моих земляков перед лицом этой дикой и могучей природы, среди красоты, которой нельзя утолиться, а которой можно только дышать, дышать и дышать, как Иван Лямич морозным воздухом, пока она не хлынет из горла кровавым ручьем.
* * *
...В эфире стоял гвалт, как в курятнике. Одни на весь район регулировали "Бурану" зажиганье, другие обсуждали способы ремонта "дыроватого" ведра, третьи все искали какие-то бочки с соляркой на сто седьмом профиле, громко и визгливо судачили две ярцевские бабы, битый час давая другу другу советы по изготовлению пирога-рыбника, и вовсю галдели два молодых матерщинника откуда-то с востока.
Гена вдруг сказал: "Мужики, хотите — стихотворение прочитаю?", мужики сказали: "Хотим", и Гена откашлялся и прочитал, и все замолчали: и наши охотники, и Имбатские, и далекий тюменский рыбак, и байкитские матерщинники, и келлогские, и полигусовские и верещагинские, а потом наш начальник участка хриплым и далеким голосом сказал: "Отлично, Гена!", а остяк Генка Тыганов по кличке Тугун, которого грозились лишить охоты за пьянку, заплакал.
Как-то раз под осень гуляли мы у Гены. С утра все было необыкновенно серебряным, металическим: и небо, и плоские облака, и вода, а когда, выпив под свежайшую черную икру несколько рюмок водки, вышел я на крыльцо дохнуть свежего воздуха, уже неслись крупные плоские снежинки наискосок вниз и исчезали, коснувшись бурой, взбитой тракторами дороги, будто пролетая насквозь, и казалось, что вся деревня летит куда-то навстречу осени, а потом на севере из-под ровной каймы поднявшихся туч сверкнула нежная и студеная синь и налилась металлом каждая волна на Енисее, вспыхнула, загорелась ржавыми листенями тайга на яру и засветилось, будто протертое, зеркало старицы с нарисованной рябью.
Вернувшись за стол, я сказал Гене что-то про рыжую тайгу, а Гена ответил, что лучше не глядеть на нее, а то "щемит", а позже, покосившись на наших подвыпивших товарищей-охотников, негромко сказал, наклонившись мне к уху: "Хорошо, что есть такие вот мужики..."
А я думал: "Ведь что такое "щемит", как не любовь? Любит Гена свою землю, и щемит у него от этого душу так, что ходят желваки под клочковатой бородой и слезятся глаза от январского хиуса.
А когда нет сил выносить эту любовь — тогда включает он радиостанцию и говорит о ней стихами на весь Туруханский район и на пол-Эвенкии, равные десяти Франциям, и замолкает тогда байкитский матерщинник, и плачет остяк Генка-Тугун, и нет больше ни у кого ничего своего, кроме этой летящей навстречу снегу, горькой и белой земли".





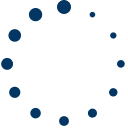
18 комментариев
8 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена8 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена