"Бывший"
"Бывший"
Его, убитого, земля не приняла в тот раз,
И он добрался умирать у нашего костра.
Все, что с ним было, рассказав, простился и ушел,
Наполнив яростью сердца всех нас, кто жив еще.
Держи оружие в чехле, но забывать не смей,
Что долгом нашим на земле святая стала месть.
Что нам доверен Божий суд, ты помни каждый миг -
Успокоенья души ждут товарищей твоих...
Баллада
Нет ни малейших сомнений, что русский человек совершенно восхитителен, пока заправляет рубашку в брюки, а не предстает в своей косоворотке навыпуск. Как сын Востока, он просто очарователен. Вот только, когда он начинает, с какой-то ненормальной заносчивостью, настаивать , чтобы его воспринимали как самого восточного из западных людей, а не самого западного из восточных, с ним становится крайне сложно иметь дело. Тут никогда не знаешь, какой стороной своей натуры русский предстанет в следующий момент.
Деркович был русским, русским из русских, как он сам отзывался о себе, он добывал хлеб насущный, служа своему царю казачьим офицером и посылая корреспонденции в русскую газету под именами, никогда не повторявшимися дважды. Это был статный молодой человек восточного вида, с охотой к странствиям по неосвоенным просторам земли, и появился он в Индии словно бы ниоткуда. Во всяком случае, среди живущих не было ни одного, кто бы мог удостоверить, лежал ли его путь через Балх, Бадахшан, Читрал, Белуджистан или Непал, или как-то еще. Правительство Индии, будучи, что вовсе ему несвойственно, настроенным благодушно, распорядилось, рассматривать того как лицо гражданское и показывать ему все, что принято показывать.
И вот, он перемещался, изъясняясь на плохом английском и еще худшем французском, от города к городу, пока не повстречался с Белыми гусарами Ее Величества в Пешаваре, городе, который закрывает собой выход из той узкой, словно прорубленной ударом сабли щели в горной стене, что люди называют Хайберским проходом. Он, несомненно, был офицером, и грудь его, как это принято у русских, украшали небольшие, покрытые эмалью, кресты, он умел поддерживать беседу, и (хоть это и не имело отношения к его боевым заслугам) от него , как от неприступной крепости, отступили даже гусары Черного Тайрона, которые в одиночку и целыми компаниями, крепким виски, глинтвейном из коньяка и прочими разнообразнейшими алкогольными изысками, чтобы с наибольшей полнотой выразить свое радушие, стремились его напоить. А если весь Черный Тайрон, состоящий исключительно из ирландцев, не достигает того, чтобы мир в голове иностранца взбаломутился, то, определенно, этот иностранец – сверхчеловек. Таково было заключение Черных тайронцев, однако, они всегда считались полком, существовавшим вне правил и имевшим обо всем собственное суждение, они даже позволяли младшим субалтернам четвертого года службы самим решать, что им пить. Спиртное здесь всегда приобреталось полковником и советом старших офицеров. А полк, что ведет себя таким образом, можно уважать, но любить нельзя.
Белые гусары с таким же знанием дела выбирают себе вина, с каким атакуют своего противника. У них быд запас коньяка, закупленный через пару лет после битвы при Ватерлоо тогдашним, не чуждым культурным веяниям, полковником. С тех пор выдерживаемый, это был теперь самый чудесный коньяк изо всех, что только предлагались на продажу. Вспомнив этот коньяк, уронил бы скупую слезу даже израненный воин, умирающий в тиковом лесу Верхней Бирмы или в липкой грязи Ирровади. А еще у них был портвейн, достойный всякого внимания; и было таинственно искрящееся шампанское, которое всегда подавалось на стол без каких-либо этикеток, поскольку Белые гусары знать ничего не желали о местах его изготовления. Офицеру, на которого возлагался выбор шампанского, запрещалось употреблять табак в течение шести недель до отбора вина.
Все эти мелкие подробности необходимы, чтобы подчеркнуть тот факт, что это шампанское, этот портвейн и, сверх всего, этот коньяк – все эти бесчисленные золотистые и красные и палевые напитки - были предоставлены в полнейшее распоряжение Дерковича, и тот предавался наслаждению, даже большему, чем среди Черных тайронцев.
Вот только, все это время он проявлял утомительный европеизм. Белые гусары были «мои верные дорогие друзья», «доблестные товарищи по оружию» и «нерасторжимы в нашем братстве». Он готов был часами излагать свое видение славного будущего, ожидающего объединенные силы Англии и России, когда сердца тех забъются в унисон и, действуя плечом к плечу, они направят всю свою мощь на исполнение великой миссии по насаждению цивилизации в Азии. Это не было убедительно, поскольку Азия вовсе не собирается стать цивилизованной на манер Запада. Азии слишком много, и она слишком стара. Если женщина любвеобильна – этого не изменить, а в прежние времена Азия была ненасытна в своих увлечениях. Она никогда не станет посещать воскресную школу или мирно поднимать сабли, голосуя за избирательные списки.
Деркович знал все это не хуже любого другого, но поднятая тема позволяла ему вести разговор особенно доверительно и сердечно, как он умел. Время-от-времени он мельком, словно невзначай, упоминал о своей казачьей сотне, очевидно оставленной без присмотра бог знает где. Он уже прошел суровую школу войны в Центральной Азии и побывал в таком числе жестоких рукопашных схваток, что не прошло большинство военных людей в его годы. При этом, он старался, мягко оттеняя собственное превосходство, при всяком удобном случае ненавязчиво хвалить внешний вид, выучку, форму и организованность Белых гусар Ее Величества. И, в самом деле, это был полк, достойный всякого восхищения. Как-то, когда миссис Дурган, вдова покойного сэра Джона Дургана, посетила их расположение, то в короткое время каждый из бывших в компании холостых офицеров сделал ей предложение, она искусно прекратила публичные излияния чувств, объяснив, что все они столь симпатичны и, поскольку она не может выйти замуж за них всех сразу, включая полковника и старших, уже женатых, офицеров, то она не собирается удовлетвориться кем-либо одним из них. Поэтому, она уже приняла предложение, но из присущего ей от природы чувства противоречия, от молодого офицера стрелкового полка, и Белые гусары уже собрались было одевать траурные нарукавные повязки, однако, затем сошлись на том, что они прибудут на венчание всем составом и выстроятся в церкви, демонстрируя тем свой немой укор. Ведь она вскружила головы им всем, от Бассета-Холмера, старшего капитана, до юного Милдреда, свежего субалтерна, а ведь он мог бы дать ей четыре тысячи годового дохода и титул. Он был виконт, и по прибытии его в полк офицеры оказались едины во мнении, что ему следовало бы вступить в гвардию, ведь сами-то они были сыновьями солидных бакалейщиков и мелких мануфактурщиков, но Милдред так старался заслужить разрешение остаться, и поведение его было столь безупречным, что он был прощен и стал офицером, что много пристойнее, чем быть каким-то виконтом.
Не разделяли общего почтения к Белым гусарам только несколько тысяч джентельменов, происхождением из евреев, обитающих по обе стороны границы и называющих себя пасанами. В свое время они встретили полк крайне официальным образом, и, хотя, встреча продолжалась менее двадцати минут, но встреча эта, осложненная большим числом павших, оставила в них непреодолимые предубеждения. Они даже называли Белых гусар «сынами дьявола» и людьми, которых совершенно недопустимо приглашать в приличное общество. При этом, они не погнушались превратить свою неприязнь в средство набивать деньгами свои пояса. На вооружении полка были карабины, отличные карабины смстемы Мартини-Генри, их пули достигали противника на расстоянии в тысячу ярдов, и были они даже более удобны, чем длинноствольные винтовки. Поэтому, заполучить такие жаждали вдоль всей границы, ну а спрос неизбежно порождает предложение, и они поставлялись с риском для жизни и здоровья за чеканное серебро, весом в точности равным весу карабина – семь с половиной фунтов рупиями или шестнадцать с половиной фунтов стерлингов за штуку при расчете по номинальной цене рупий. Их выкрадывали по ночам змеиноволосые воры, проползавшие по пластунски под носом у часовых, карабины таинственным образом пропадали из закрытых на замки оружейных складов, а в жаркие дни, когда двери и окна казармы были открыты настежь, карабины растворялись как струи дыма в жарком воздухе. Приграничному населению они были необходимы для семейных вендет и, вообще, на всякий случай. А в длинные холодные ночи зимней Северной Индии похищения, почему-то, были особенно интенсивны. Поток убийств в горах был самым оживленным в этом сезоне, и цены стояли высоко. Охрана в полку была сначала удвоена, а затем и утроена. Солдат не слишком переживает, лишившись оружия - дело правительства обеспечить его, но крайне негодует, лишаясь возможности выспаться. Раздражение в полку росло, и один из карабинных воров уже нес на себе вполне заметные следы этого раздражения. Произошедшее с ним остановило на время ночные кражи, и соответственно была уменшена охрана. И полк смог позволить себе провести игру в поло, результаты которой оказались неожиданными, поскольку он со счетом 2:1 победил крайне грозную команду Корпуса Лушкарской легкой кавалерии, несмотря на то, что та имела по четыре пони на каждый часовой тайм игры, а также того офицера, из местных, что на поле был подобен бушующему пламени.
В честь такого события, был устроен обед. Была приглашена Лушкарская команда, и приглашен был Деркович, явившийся в полной, довольно просторной, форме казачьего офицера, сидящей свободно, подобно халату, и был представлен лушкарцам, к которым внимательно пригляделся. Они были куда менее церемонны, чем гусары и не отличались строгой военной выправкой, чего вовсе и не требуется от Пограничных сил Пенджаба и прочих нерегулярных формирований. Как и ко многим различным вещам на военной службе, к такой выправке приучаются, но, в отличие от многого другого, она уже никогда не теряется, и тело хранит ее до самой смерти.
Большой, под высокой, поддерживаемой мощными балками крышей, зал собраний Белых гусар был местом запоминающимся. Все столовое серебро было выставлено на длинный стол, тот самый стол, что послужил в свое время при прощании с пятью офицерами, погибшими в давным-давно забытой битве, потемневшая, плотно обитая входная дверь, преграда зиме, розы лежали между серебряных подсвечников, и портреты скончавшихся заслуженных офицеров смотрели со стен на своих преемников, окруженные головами самбуров, нилгаев и мархоров, и предмет гордости всего собрания два оскалившихся снежных барса, стоивших месяца жизни Бассету-Холмеру, который тот мог бы провести в Англии, а не на пути к Тибету и в горах, где он каждый день рисковал жизнью на обледеневших горных выступах и покрытых травой склонах.
Слуги в белоснежных муслимовых одеждах с эмблемами полков на тюрбанах ожидали позади своих господ, облаченных в алое с золотом Белых гусар и в кремовое с серебром Лушкарских кавалеристов. Унылая зеленая форма Дерковича оказалась единственным темным пятном в собрании, однако, его большие цвета оникса глаза были словно созданы для нее. Он настойчиво уверял в своем братском отношении капитана Лушкарской команды, тот же, в свою очередь, интересовался, сколько казаков Дерковича смогут противостоять в прямой честной схватке возглавляемому им отряду жилистых темнокожих жителей приграничья. Но, рассказывать о таких вещах публично, пожалуй, не следует.
Разговоры звучавшие все оживленнее и громче, полковой оркестр игравший при переменах блюд, как это принято с незапамятных времен, все стихло на мгновение, когда убраны были столовые приборы, и произнесен был обязательный первый тост, встав, полковник провозгласил: «Господа. За Ее Величество Королеву!», и юный Милдред со своего конца стола отозвался: «За Королеву, храни ее Бог!», и зазвенели большие шпоры, когда поднялись большие мужчины и выпили за свою королеву, на чей счет они напрасно расчитывали отнести все расходы своей компании. Ритуал этот для офицеров никогда не устаревал, и каждый раз участникам его перехватывало горло, происходило ли то на суше или на море. Деркович встал вместе со своими «доблестными собратьями», но ощутить охвативший всех порыв он не мог. Никто, кроме офицера, не может выразить, в чем значение этого тоста, но и среди них большинство скорее чувствует это, чем осознает. Прервав короткое безмолвие, возникшее по окончании церемонии, вошел офицер местного происхождения, игравший за команду Лушкара. Есть за обедом то, что все сообщество, он, разумеется, не мог, но за десертом присоединился к компании всеми шестью футами своего роста, синим с серебром тюрбаном сверху и огромными черными сапогами снизу. Все общество радостно поднялось в момент, когда тот вскинул рукоятью вперед свою саблю в знак выражения верности полковнику Белых гусар а затем опустился в свободное кресло, сопровождаемый возгласами: «ранг хо, хире синг!» (что в переводе означает: «входи и победи!»). «Ну что, задал я тебе трепку, старик?», «Рессайдар Сахиб, какого дьявола ты играл последние десять минут на этом неуклюжем как свинья пони?», «Шабаш, рессайдар Сахиб!». И, голос полковника: «За здоровье рессайдара Хира Синга!».
Когда приветствия стихли, Хира Синх поднялся для ответного слова, он принадлежал к королевскому дому, был сыном сына короля и знал, как принято выражаться в таких случаях. И заговорил на местном диалекте английского:
«Полковник Сахиб и офицеры этого полка. Многая честь сделала вы мне. Это будет я помнить. Мы сошли издалека, чтобы играть вас. Но мы проиграли.». («Не ваша вина, Рессайдар Сахиб. Игра ведь шла на нашем поле, все понятно. Ваши пони не оправились от вагонной тесноты. Не огорчайтесь!») «Поэтому, мы еще вернемся сюда, если судьбе будет угодно.» («Да! Да! Да. Конечно! Браво! Ваше высочество!») «И сыграем вас еще раз.» («Рады видеть вас.») «Пока не остается пятен на наших пони. Теперь дальше от спорта.» Он опустил руку на эфес сабли и вперил взгляд в Дерковича развалившегося в своем кресле. «Но, если по Божьей воле разражается какая-то иная игра – не игра в поло, будьте уверены Полковник Сахиб и офицеры, мы будем играть бок-о-бок, пусть даже они,» - он снова пристально посмотрел на Дерковича, «пусть даже у них, я говорю, будет по пятьдесят пони на одну нашу лошадь.» И здесь он резко выдохнул: «эх!», что прозвучало подобно удару мушкетного приклада о камень, и сел в окружении опорожняемых бокалов.
Деркович, всецело посвятивший себя коньяку, тому грозному коньяку, что упоминался выше, ничего не понял и не воспринял смягченных пояснений предлагавшихся ему по ходу выступления. Решительно, речь Хира Сингха стала кульминацией этого вечера, и шумные возгласы могли бы продолжаться до рассвета, не будь они прерваны звуком выстрела, который, впрочем, вовсе не кольнул никого ощущением отсутствие сабли на своем левом боку. Заслуживает упоминания, что Деркович гордо выпятил грудь, когда по-американски откровенным жестом капитан Лушкарской команды выразил удивление, что казачьи офицеры являются на трапезу вооруженными. Тут послышалась какая-то возня и раздался пронзительный крик боли. «Опять карабинный вор!» - воскликнул адьютант, расслабленно утопая в своем кресле. Это оттого, что уменьшили охрану. Надеюсь, часовые его убили.
По каменным плитам входной галереи тяжело застучали шаги вооруженных людей, похоже было, что тащили что-то тяжелое.
«Да что ж они не посадят его под замок до утра?» - спросил полковник недоуменно. «Взгляните, стюард, может они его ранили.»
Озабоченный стюард выскочил в темноту и вернулся с двумя солдатами и капралом, все они явно были в сильном смущении.
«Схвачен карабинный вор, сэр» - отрапортовал капрал. «Ведь тут как ни взгляни, а полз-то он к казармам, сэр, и уж прошмыгнул главную линию постов, а часовой, он сказал, сэр…»
Хромающая куча тряпья, поддерживаемая тремя солдатами, застонала. Никогда еще не приходилось видеть такого нищего и опустившегося афганца. Он был без тюрбана, босой, с вьевшейся в кожу грязью, и едва живой от грубого обращения солдат. Хира Сингх слегка вздрогнул от звука человеческой боли. Деркович взял еще рюмку коньяку.
«Что говорит часовой?» - спросил полковник.
«Говорит, что этот парень знает английский, сэр» - ответил капрал.
«И потому вы приволокли его сюда вместо того, чтобы передать сержанту! Да знай он хоть все языки, как апостолы в день Пятидесятницы, это не ваше дело».
Ворох тряпья снова застонал и что-то пробормотал. Юный Милдред вскочил со своего места, чтобы разглядеть происходящее вблизи. И тут же отшатнулся, как от выстрела.
«Может было бы лучше, сэр, отправить этого человека отсюда» - обратился он к полковнику, ведь будучи субалтерном, он все же был на особом счету. Произнося эти слова, он обхватил руками обмотанный тряпьем кошмар и опустил его в кресло. Возможно, еще не было сказано, что Милдред, при всей его юности, имел шесть футов и четыре дюйма росту и сложен был своему росту вполне пропорционально. Капрал, увидя, что офицер расположен присмотреть за схваченным, и что глаза полковника начинают грозно сверкать, немедленно убрался со своими людьми. Офицеры остались наедине с карабинным вором, который положив голову на стол, рыдал горько, безнадежно и безутешно, как рыдают только маленькие дети.
Хира Сингх вскочил на ноги, чтобы наглядно описать на здешнем английском то, что его озарило. «Полковник Сахиб» - объявил он, «этот человек – не афганец, те плачут айяй! айяй! Он не из Индустана, эти плачут о-ох! Хо-о! У него манера белого человека плакать а-ау! А-ау!»
«Черт возьми, откуда у Вас такие познания, Хира Сингх?» - спросил капитан Лушкарской команды.
«Слушайте его!» - только и сказал Хира Сингх, указав на съежившуюся фигуру, рыдавшую так, словно конца этим рыданиям никогда не будет.
«Он сказал, боже мой!» - воскликнул юный Милдред. «Я слышал, он сказал это.»
Полковник и вся компания в молчании смотрели на плачущего человека. Ужасно слышать рыдания мужчины. Женщина умеет рыдать губами, ртом или как-то еще, а рыдания мужчины рвутся из самой глубины груди и, кажется, раздирают его в куски.
«Бедняга!» - произнес полковник, мощно кашлянув.
«Надо отправить его в госпиталь. Видно, наши солдаты крепко его отделали.»
Тут вступил адьютант, обожавший свои карабины. Они были для него как внуки и занимали первое место в его душе. Он проворчал несогласно: «Мне понятен афганец крадущий – он создан таким. Но афганца рыдающего, я бы и представить себе не мог. Так что, тут - что-то похуже.»
Коньяк, видимо, оказал свое воздействие на Дерковича. Поскольку он разлегся в кресле и уставился в потолок. На потолке не наблюдалось ничего особенного, кроме черной тени как-будто от огромного гроба. Благодаря некой странной особенности в конструкции зала собраний, эта тень всегда отбрасывалась, когда зажигали свечи в канделябрах. Присутствие тени никак не сказывалось на пищеварении Белых гусар. Скорее, они даже несколько гордились ею.
«Уж не собирается ли он рыдать всю ночь?» - поинтересовался полковник, «Может, нам полагается сидеть так до тех пор, пока гость нашего Милдреда не придет в себя?»
Человек в кресле вдруг вскинул голову и обвел взглядом присутствующих. Снаружи послышался хруст гравия под колесами на главной дороге.
«О, Господи!» - воскликнул человек в кресле, и все присутствующие вскочили на ноги. И тут капитан команды Лушкара сделал то, что достойно Креста Виктории за выдающуюся галантность в борьбе с непреодолимым любопытством. Он сделал знак глазами своей команде, как хозяйка делает знак дамам в подходящий момент, и задержавшись только у кресла полковника, чтобы сказать: «Это не наше дело, сэр», увел свою команду в галерею и далее в сад. Хира Сингх шел последним и, проходя мимо, взглянул на Дерковича. Но Деркович полностью погрузился в коньячное блаженство. Губы его беззвучно шевелились, и он исследовал гроб на потолке.
«Белый, совершенно белый» - сказал Бассет-Холмер, адьютант. «Он, должно быть, закоренелый вероотступник! Откуда же он мог взяться?»
Полковник осторожно потряс человека за руку: «Кто Вы?» - спросил он.
Ответа не последовало. Человек зачарованно оглядывал зал и улыбался в лицо полковнику. Юный Милдред, а он всегда бывал по-женски мягок до момента, когда звучала команда «по коням!», повторил вопрос таким голосом, который вызвал бы доверие и у бесчувственного столба. Человек только улыбался. Деркович, на дальнем конце стола, мягко сполз со своего кресла на пол. Ибо не может сын человеческий в этом несовершенном мире смешать гусарское шампанское с гусарским же коньяком в пропорции пять и восемь бокалов соответственно, не заботясь о подстерегающей его при этом ловушке и, естественно, попадая в нее. Оркестр заиграл музыку, при звуках которой Белые гусары с момента своего формирования , начинали каждый день службы. Они бы скорее предпочли быть вовсе расформированными, чем отказались бы от этой музыки. Ведь это была часть их жизни. А странный человек распрямился в своем кресле и выстукивал ритм пальцами по столу.
«Не вижу нам нужды развлекать лунатиков» - сказал полковник, «вызовите охрану, и пусть его отведут на гауптвахту. Утром вернемся к этому делу. Только дайте ему прежде стакан вина.»
Юный Милдред наполнил бокал для шерри коньяком и подвинул его сидящему. Тот выпил, музыка заиграла громче, и он еще более выпрямился. Затем протянул свои, с длинными отросшими ногтями, руки к стоявшему напротив подсвечнику и любовно его погладил. Подсвечник этот, напоминающий формой чашу, хранил некий секрет, он мог превращаться из плоского семисвечника, с одним рожкрм в центре и тремя рожками с каждой стороны, в канделябр, рожки которого располагались подобно спицам колеса. Человек нашел кнопку, нажал ее и сразу же отпустил. Он встал из кресла, обследовал картину на стене, затем перешел к другой картине, присутствующие наблюдали за ним не произнося ни слова. Подойдя к каминной доске, человек затряс головой, он выглядел потрясенным. Статуэтка конного гусара в полном снаряжении приковала его взгляд. Он указал на нее, а затем – на каминную доску, и в глазах его стоял немой вопрос.
«Что это? О, боже, что это?» - произнес юный Милдред. А затем, словно мать ребенку: «Это конь. Да, это конь.»
Ответ прозвучавший не сразу, произнесен был хриплым и бесстрастным гортанным голосом: «Да, я вижу, но где же здесь тот конь?»
Слышно было биение сердец присутствовавших, освобождавших дорогу незнакомцу, обходившему зал. Никто не потребовал вызвать охрану.
И вновь он произнес очень медленно: «Так где же наш конь?»
Трудно описать, что началось после этого. Ведь есть только один такой конь для Белых гусар, и портрет его висит снаружи у двери зала офицерского собрания. Это был мощный пегий конь, всегда выступавший впереди и несший на себе полковые барабаны и барабанщика на парадах полка, любимец полкового оркестра, служивший полку тридцать и еще семь лет и застреленный, когда совсем состарился. Несколько офицеров сорвали картину со своего места и сунули ее в руки незнакомцу. Тот пристроил ее над каминной доской; картина стукнулась о выступ, когда его слабые руки опускали ее, а сам он, пошатнувшись к торцу стола упал в кресло Милдреда. Оркестр заиграл вальс «Река времени», смех часовых донесся в наполненный ароматами табака зал собраний. Но никто, даже самый молодой, не думал о вальсах. Все они перебрасывались фразами примерно такого рода: «Картина ведь не висела над каминной доской с 67-го. Откуда он знает? Милдред, попробуйте поговорить с ним еще. Полковник, что Вы намериваетесь делать? Ах, бросьте, дайте несчастному сосредоточиться! Но это же невозможно, что ни говори. Этот человек – лунатик.»
Юный Милдред стоял сбоку от полковника и что-то говорил ему на ухо. «Будьте любезны, господа, займите свои места, пожалуйста» - попросил он. Присутствовавшие расселись по креслам.
И только место Дерковича, бывшее рядом с креслом Милдреда, оставалось пустым, а сам юный Милдред занял место Хира Сингха. В мертвой тишине, выкатив глаза, стюард наполнил бокалы. Полковник поднялся вновь, руки его подрагивали, и портвейн плеснулся на стол, когда он, взглянув в упор на человека в кресле юного Милдреда, сказал охрипшим голосом: «Господа. За Ее Величество королеву.» Возникла короткая пауза, но незнакомец тут же вскочил на ноги и ответил без колебаний: «За королеву, храни ее Бог!» А когда он опорожнил бокал тонкого стекла, все услышали как ножка бокала хрустнула в его пальцах. Когда-то давно, когда Императрица Индии была еще молода, и чисты были идеалы страны, в некоторых из офицерских компаний принято было, выпив тост за Королеву, разбивать бокалы, к огромному удовольствию их поставщиков. Теперь эта традиция умерла, поскольку не осталось хоть чего-нибудь, за что стоило бы хоть что-то разбить, кроме, может, звучащих раз за разом громких правительственных заявлений, но и те стоят не дороже разбитых бокалов.
«Теперь понятно» - сказал полковник, чуть задохнувшись. «Он не из обслуги. Но, кто же он, черт возьми?»
Все, бывшие за столом, эхом отозвались на эти слова, а последовавший залп вопросов мог бы сбить с толку любого. Не удивительно, что непрошенный гость, оборванный и грязный, только улыбался и тряс головой.
Из-под стола, умиротворенно улыбаясь, изысканно поднялся Деркович, здоровый сон которого был прерван тем, что кто-то положил на него ногу. Поднявшись, он оказался рядом со странным человеком, а тот вдруг пронзительно вскрикнул и повалился ему в ноги. Это было так жутко видеть сразу же после гордого и славного тоста, что тяжелое напряжение овладело всеми.
Деркович не выразил намерения помочь упавшему встать, но юный Милдред мгновенно поднял его. Скверно ведь, когда джентельмен, способный ответить на тост за Королеву, вынужден валяться в ногах у казачьего субалтерна.
От сильного рывка ветхое рубище несчастного лопнуло сверху почти до пояса, и стало видно покрытое засохшими черными рубцами тело. На свете есть лишь одно орудие, оставляющее такие параллельные рубцы, и это не палка и не плеть. Когда Деркович увидел эти отметины, зрачки его расширились, и он изменился в лице. Он произнес нечто вроде: «Што ви такит», а человек, подобострастно: «Четыр.»
«Что он сказал?» - спросили все разом.
«Это его номер. Номер четыре, знаете ли» - пробормотал Деркович.
«А к чему офицеру Ее Величества присвоенный номер?» - спросил полковник, и недовольный ропот пронесся над столом.
«Ну, откуда мне знать?» - ответил любезный сын Востока с обаятельной улыбкой. «Он, это, как это по-вашему? – Побег. Бежит весь путь оттуда.»
Кивком головы он указал в темноту ночи.
«Поговорите с ним, раз он Вам отвечает, и говорите с ним мягко» - попросил юный Милдред, усаживая человека в кресло. Всем представлялось совершенно неуместным, что Деркович станет сейчас, попивая свой коньяк, бормотать что-то непонятное по-русски с этим созданием, которое и так-то еле говорит, да еще столь явно трясясь от страха. Но, поскольку Деркович, похоже, мог бы здесь что-то выяснить, никто возражать не стал. Подавшись вперед, все сдерживали дыхание в долгих паузах разговора. И теперь, как только обстановка позволит, Белые гусары твердо намерены в полном составе отправиться в Санкт-Петербург учиться русскому.
«Он не помнит, сколько лет прошло» - сказал Деркович, обратившись к офицерам, «Но, он говорит, это случилось очень давно. На войне. Похоже, произошел какой-то инцидент. Он говорит, что на той войне он состоял в вашем славном и выдающемся полку.»
«Списки! Списки! Холмер, дайте списки!» - вскричал юный Милдред, и адьютант опрометью бросился в канцелярию, где хранились списки личного состава полка. Он вернулся как раз вовремя, чтобы услышать заключительные слова Дерковича: «Поэтому мне особенно прискорбно сообщить, что произошел скверный инцидент, но все еще можно было бы поправить, если бы он извинился перед тем нашим полковником, которого он оскорбил.»
И тут последовала новая волна ропота, которую полковник попытался приглушить. Офицеры не были расположены брать в расчет оскорбления, нанесенные русским полковникам в то, военное, время.
«Он не помнит, но я думаю, что случилось нечто, из-за чего его не обменяли наряду с другими пленными, а отправили в другое место. Как это говорится? В глубь страны. Итак, он говорит, он добрался сюда. Как он добрался, он не знает. Что? Он был в Чепани» - услышав знакомое слово, человек закивал и затрясся от ужаса, - «в Жиганске и Иркутске. Я не понимаю, как ему удалось бежать. Он говорит также, что долгие годы жил в лесах. Но вот, сколько лет, он забыл, как и многое другое. Это случилось потому, что он не извинился перед тем нашим полковником. Ах, бедный!»
Вместо того, чтобы вторить вздохам сожаления Дерковича, Белые гусары, следует заметить, оживленно совсем не по-христиански выражали восхищение и другие чувства, едва сдерживаемые их представлением о гостеприимстве. Холмер резко опустил на стол кипу истрепанных и пожелтепших полковых списков, и офицеры бросились просматривать их, расхватывая тетради.
«Не все сразу! Пятьдесят шесть, пятьдесят пять, пятьдесят четыре» - говорил Холмер. «Вот оно. Лейтенант Остин Лиммасон – отсутствует. Это произошло еще до Севастополя. Какой позор! Оскорбил кого-то из их полковников и был тайно сослан. Тридцать лет его жизни вычеркнуты.»
«Но он не стал извиняться. Сказал, что будь он проклят, если извинится» - вскричали все хором.
«Несчастный! Он ведь не имел ни малейшего шанса после этого. Как же ему удалось добраться сюда?» - спросил полковник.
Грязный ворох лохмотьев в кресле ничего не мог ответить.
«Знаете ли Вы, кто вы?»
Раздался короткий смешок.
«Известно ли вам, что вы Лиммасон – Лиммасон, лейтенант полка Белых гусар?»
Мгновенно, словно выстрел, прозвучал ответ, произнесенный с легким удивлением: «Да, конечно, я - Лиммасон.» Тут же глаза его потухли, он вновь сжался, с ужасом следя за каждым движением Дерковича. Побег из Сибири может и способствует восстановлению в памяти некоторых частных фактов, но, видно, не содействует общему прояснению сознания. Человек не мог объяснить, как он, подобно возвращающемуся домой голубю, смог найти путь к своим родным местам. Отчего он страдал и что видел, он ничего не помнил. Он сжимался от страха перед Дерковичем так же инстинктивно, как нажимал кнопку на подсвечнике, искал картину с конем и отвечал на тост во здравие Королевы. Все остальное было лишь проблесками памяти, которую этот чертов русский язык не смог до конца вытеснить. Его голова склонилась на грудь, и он то хихикал, то съеживался от страха.
Тут, черт, обитающий в коньяке, подтолкнул Дерковича в этот крайне неподходящий момент произнести речь. Он поднялся, слегка покачиваясь, крепко сжал край стола руками, глаза его горели, как опалы, и он начал:
«Товарищи по оружию, мои славные друзья и гостеприимные. Это был несчастный случай, прискорбно – премного прискорбно.» Он одарил обаятельной улыбкой присутствовавших. «Но, вы думайте об этом мало, мелочь ведь. Такая мелочь. Кто он? Царь! Высокая персона! Да плавать, то-есть – да плевать на него. Верю я ему? Нет! Но в нас, славян, кто ничего ему не сделал, я верю. Семьдесят – сколько? Миллионы людей, что не сделали ничего, ничего такого. Высокая персона! Наполеон был только эпизодом.» Он ударил рукой по столу. «Послушайте, старики, мы ничего не сделали в этом мире вокруг нас. Всю нашу работу предстоит сделать, и она должна быть сделана, старики. Вперед!» Он властно взмахнул рукой и указал на замершего человека. «Вы видите его. Неприятно его смотреть. Он был только незначительный, или – столь незначительный инцидент, что никто уже не помнит. Теперь он – таков. Так будьте же, братья солдаты, так храбры, будьте же. Но вы никогда не вернетесь. Вы все пойдете, куда ушел он, или» - он указал на огромную тень гроба на потолке, и, глухо забормотав: «Семьдесят миллионов выходят в путь, вы старики» - погрузился в сон.
«Десерт, а теперь – к делу» - сказал юный Милдред. «Что пользы в гневе? Давайте лучше позаботимся о нашем несчастном.»
Но заботы эти очень скоро были вдруг изъяты из надежных рук Белых гусар. Возвратившийся лейтенант вновь ушел спустя три дня, когда стон похороного марша и тяжелая поступь эскадронов разнесли по замершему в ожидании расположению полка весть, что заполнена пустующая графа в списках, что офицер полка ушел в окончательную отставку со своей вновь обретенной должности.
А Деркович, такой любезный, обаятельный и всегда доброжелательный, убыл ночным поездом. Юный Милдред и еще несколько человек проводили его, он ведь был у гусар гостем, и прощаясь, он даже крепко хлопнул по плечу полковника, что ж, гусарский закон не позволяет ослабления норм гостеприимства.
«Прощайте, Деркович, и счастливого Вам пути» - пожелал юный Милдред.
«Au revoir, мой верный друг » - ответил русский.
«В самом деле! Разве Вы не собирались домой?»
«Да, но я обязательно вернусь. Разве, друзья мои, перекрыт этот путь?» - он указал туда, где прямо над Хайберским проходом горела Полярная звезда.
«Боже милостивый! Совсем забыл. Ну, конечно. Рады видеть Вас, старик, всегда, когда пожелаете. Получали все, что хотели – сигары, лед, постельное белье? Это хорошо. Что ж, au revoir, Деркович.»
«Ммда» - пробормотал один из провожавших, когда задние огни поезда стали совсем маленькими. «При всех неотъемлимых...»
Юный Милдред ничего не ответил, он смотрел на Полярную звезду и мурлыкал куплет из бурлеска, так понравившегося Белым гусарам. Слышалось:
Господин мой, Синяя Борода,
Мне так жаль – ты обижен мной.
Но как страшно весело станет тогда,
Когда ты вернешься вновь.
Авторский пост


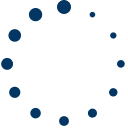
1 комментарий
8 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена