Слава Героям
Много текста.Рассказ обычного солдата.СЕМЕН КОНЕВ
ВОЙНА
ЗАПИСКИ СОЛДАТА
Журнал «Наш современник», №5, 2000. С.3-47.
КОНЕВ Семен Климентъевич родился в 1907 году в старообрядческой семье в верховьях Енисея в Туве. После революции отрекся от старообрядческих традиций своих предков, стал коммунистом. В 1934 году был исключен из партии. Работал на золотодобыче, затем — строителем, забойщиком на руднике, кочегаром. В 1937 году прошел курсы счетоводов в Кызыле (тогда — Белоцарск) и направлен в местечко Чадан. Тува тогда не входила в состав СССР. Участник Великой Отечественной войны с февраля 1942 года. После войны работал бухгалтером в городе Шагонар.
Вырастил семерых детей. Скончался в 1995 году. Публикуемые воспоминания написаны им в 1982—1990 годы.
Предисловия Владимира Крупина и Анатолия Заболоцкого
Как определить жанр той работы, которую мы сегодня печатаем? Что это? Повесть? Нет. Хотя все законы повести выдержаны: идет развитие и действия и характера, есть и завязка — плен, и развязка — освобождение. Но это не повесть. И не рассказ. Даже и не записки. Это вообще не поддается литературоведческому анализу. Перед нами свидетельство очевидца. Перед нами именно то, что говорит правду о войне.
Хорошо, что в свое время тетради С. К. Конева не были напечатаны в искаженном виде. Они были местным Кызылским издательством подготовлены к печати. Но в каком виде? Написанное от первого лица произведение, говорящее языком участника событий, превратилось в победный рассказ, где советский солдат 'одним махом семерых побивахом". Нет, победа, а мы победили главную чуму двадцатого века — фашизм, досталась нам таким напряжением сил, такими потерями, что мы до сих пор не можем утвердиться на ногах именно из-за этой войны.
Даже и дети Семена Климентьевича относились к этим тетрадям насмешливо, уже и внукам они были ни к чему. Но они не могли погибнуть. Не могли именно в силу той обжигающей и одновременно обыденной правды войны. Солдат не опускается до уровня иных писателей, которые пишут матом о войне, или до других, которые учат жить полководцев и сводят запоздалые счеты с Генштабом, солдат Конев жил в обстоятельствах, в которые его ставила жизнь. Никого не обвиняя, никому слова плохого не говоря, он всю жизнь бурлачил, тянул лямку русской действительности, менял, по необходимости, плуг на винтовку и опять винтовку на плуги отошел к небесам, ничего не нажив в земной жизни. Но сохранив душу. А русская душа бессмертна. Первый, кто оценил и этим спас рукопись от гибели, был Анатолий Заболоцкий, кинооператор, выпустивший несколько фотокниг, календарей, снявший фильмы "Калина красная", "Печки-лавочки", "Целуются зори", "Все впереди", "Мелочи жизни", "Через кладбище" и другие... Именно он привез со своей родины, из Сибири, с берегов Енисея эти солдатские тетради. Их оставшиеся родственники хотели уже попросту выкинуть, но, слава Богу, решили показать земляку. Анатолий Дмитриевич сразу ощутил то, что называется подлинностью, то, что никаким образованием не достигнешь: это выстраданный, пережитый и настолько искренний рассказ о себе и жизни, что диву даешься, как человек бесстрашно пишет обо всем. Это бесстрашие чисто русское: если так было, если я именно так поступил, то я и рассказываю все как на исповеди. Человек с тремя классами образования понял, что судьба (а это слово происходит от слов "суд Божий") провела именно его через такие испытания, и он обязан рассказать эту правду тем, кто ее не знает. Правдивость рукописи сопротивляется вмешательству редакторского каран-даша. Тут ни убавить, ни прибавить. Такая была война, в такой войне мы выстояли, такой наш солдат. Думаю, что только равнодушные могут не понять, что перед ними.
Владимир КРУПИН
Предлагаемый читателям текст представляет собой быль, удержанную цепкой памятью сибиряка из Тувы, колхозного счетовода Семена Климеитьевича Конева (выходца из семьи староверов). Повествование Конева относится к периоду Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Он был человеком упористым и добился участия в его труде профессионального журналиста В. А. Бузыкаева, написавшего по рукописи Конева свою версию, где автор выступает в третьем лице и лишь кое-где цитируется. Кызылское издательство готовило выпуск этой обработки в 1993 году, но в горбачевскую перестройку издательство прекратило существование.
Летом 1997 года мне пришлось неделю пережидать непогоду в Шагонаре (в Туве) у Сергея Семеновича Конева, сына С. К. Конева. Однажды вечером он предложил мне почитать версию Бузыкаева. Мне скоро стало ясно, что журналист допустил непозволительное вмешательство в оригинальное повествование из цензурных соображений. Тогда я попросил дать мне авторские записи. Это была амбарная тетрадь, исписанная неразборчивым почерком. Из разговоров с потомками Семена Климентьевича я понял, что они не читали оригинального текста, знали его только по варианту Бузыкаева и относились к писаниям предка с иронией, считая их старческой блажью. Совершенно очевидно, что сам Семен Климентьевич ценил свой хроникальный труд и прилагал немало стараний для его опубликования. Самобытные записи Конева не нуждаются в посторонней литературной обработке, поскольку автор был человеком одаренным от природы. Думаю, что из подобных повествований, зафиксированных в таких тетрадях, как коневская, и составится в итоге истинная история Великой Отечественной войны.
Судьба С. К. Конева — это лишь один пример из миллионов трагедий в той страшной войне, когда уничтожались люди, города, деревни. Живые строки Конева свидетельствуют о геноциде русского народа. Сегодня, когда на слуху холокост и реституция, нелишне вспомнить, что нашим страдальцам никто не предлагает ни материальных компенсаций, ни восстановления хотя бы части из тех сотен музеев и библиотек, что были разграблены, зато бывшие грабители требуют возвращения их ценностей, полученных нашими музеями по репарациям.
Анатолий ЗАБОЛОЦКИЙ
ПРИЗЫВ В АРМИЮ
В 1941 году я жил на Опытной станции, недалеко от Чадана Дзум-Хемчихского хотуна Тувы. Работал счетоводом. В августе 1941 года была сформирована дружина ополченцев в составе 30 человек. Командиром группы был избран главный агроном Опытной станции Сотников Владимир Петрович. После работы мы ежедневно, а в выходные дни целый день обучались воен¬ному делу. Зубрили устав строевой и караульной службы, учились стрелять.
Когда выпал снег, стали на лыжах делать походы в город Чадан, это восемнадцать километров. Однажды вышли на тактическое занятие с охот-ничьими ружьями, заряженными холостыми патронами, разумеется. Группы разделили на "белых" и "красных". Начались поиски противника, вскоре начался "бой". И в этом бою был ранен в руку ополченец Чодураа. Боец Муравьев выстрелил дробовым зарядом, к счастью, Чодураа находился на далеком расстоянии, да еще в полушубке, дробь застряла в шерсти рукава. После этого ЧП занятия проводились без оружия, с палками.
6 февраля 1942 года ездили в город Чадан на призывной пункт, а вечером того же дня вернулись домой. На сборы дали одни сутки. Мне нужно было сдать бухгалтерию, собрать и перевезти в Чадан семью. Бухгалтерию некому было сдавать, а семью — пять ребятишек, жену с грудным ребенком — перевез в Чадан, оставил в холодной избе. Поздно вечером после короткого митинга в клубе нам дали подарки. Потом усадили в грузовые машины некрытые, мороз был до сорока градусов, а у нас одежка была неважная.
В Кызыл приехали восьмого февраля, а девятого нас повели в клуб на судебный процесс. Судили Губиных, мужа с женой, которые увезли своих семерых детей в тайгу и бросили там. Все дети в тайге замерзли. Возраст детей от 1 года до 16, старшая сестра шестнадцати лет старалась спасти младших братишек и сестренок до тех пор, пока сама не замерзла. Похоронив младших, она пыталась выйти из тайги, но заблудилась.
Суд приговорил обоих родителей к высшей мере наказания — расстрелу. После оглашения приговора эти фанатики и негодяи заявили, что они теперь на том свете будут вместе с детьми в раю. Присутствующая публика была возмущена и требовала самих их заморозить.
10 февраля нас посадили в грузовики и повезли за границу — в СССР, в то время еще была русско-тувинская граница. Всего нас было из Опытной станции семь человек: А. Охотников, И. Глухих, Т. Попков, А. С. Даньков, С. Горбунов, С. К. Конев, Зрюкин. Последний, потом говорили, дезертиро¬вал. Домой вернулись двое — я и Даньков. Четверо погибли.
На границе встретил своего дядю Федота и его сына Иллариона Тара-кановых (Илларион потом погиб на фронте).) Ехали через Минусинск. В городе было много военных и ...попрошаек. В столовой нам подали галушки, мы их есть не стали, а достали свои харчи, взятые из дому. В столовой впервые услышал матерную брань. У нас в Туве этой матерщины не слыша¬ли, никто не матерился. Попрошайки, детишки, подростки и взрослые буквально окружили наши столы и выпрашивали что-нибудь, хлеб или галушки. После завтрака я сходил на рынок, продал свитер и еще кое-что.
Через неделю мы прибыли в поселок Заозерный. Нас поместили в хо-лодный клуб и держали до утра.
Днем стали формировать учебные батальоны и роты. Повели на полигон,
на стрельбище я выбил на дистанции сто метров двадцать семь очков из тридцати возможных. Стреляли из винтовки-трехлинейки. Меня направил в полковую школу во взвод снайперов. С восьми утра до шести вечера шли тактические занятия. После ужина до десяти часов вечера — изучен» материальной части и устава караульной службы. Материальную часть изучал! в основном русскую трехлинейную винтовку — разобрать, собрать — и во Хотя формально числились взводы стрелковый, пулеметный, минометный снайперский, саперный, связной, артиллерийский, а фактически все занимались изучением стрелкового дела и, в основном, ежедневно ползали на брюхе по- пластунски, месили снег, кололи палками чучела — набитые соломой мешки. Практической стрельбой совсем не занимались. Наш взвод, снайперский, даже не имел оптического прицела. Да и остальные курсанты не произвели ни одного выстрела из обычной трехлинейной винтовки. Подготовка будучи младших командиров, можно сказать, не велась. Из высокого начальства никто не интересовался нами и всей школой. Начальник школы и командир взводов пьянствовали, доверили учебу младшим командирам — сержанта! Мы страшно уставали и всегда были голодные. Наркомовская норма пайка до нас не доходила, ее растаскивали, меняли на самогон старшина, повар другие ихние друзья. Все происходило на глазах у самого начальника школы, но он мер не принимал. Курсанты ослабли от истощения, стали болеть, ходить с опухшими ногами и руками. Больных направляли в санчасть, врачи-евреи выпроваживали больных обратно, не оказав никакой помощи и не дав больно; справки об освобождении от занятий.
Как-то в конце марта меня отправили в лес за дровами на лошади, быстро съездил, привез сырого березняка, с работой справился к обеду решил, что после обеда смогу написать письмо да сходить за молоком, но ошибся. После обеда, как только курсанты ушли на занятия, дежурный по школе заставил меня мыть полы в казарме. Что делать? Тряпку в ведро давай возить по полу, а пол был не крашен, и я засадил занозу в пал правой руки. В тот же вечер палец начал нарывать, на второй день рука распухла до локтя, ладонь нельзя было впихнуть в рукавицу. Я отпросил сходить в санчасть, а там не стали смотреть и слушать меня, выгнали всех. Видели мою руку командиры и сам начальник школы, но от занятий освободили. Палец спать не давал, я накаливал докрасна иголку, прокалывал нарыв, выпускал гной из пальца, а потом привязывал мякиш хлеба к нему.
Однажды утром нас, больных, построили в казарме. Начальник школы, подполковник (грузин) скомандовал: "Больным выйти из строя три пм вперед!" Вышло человек тридцать, почти половина состава школы. Ocтальных приказал лейтенанту увести на занятия, а нам заявил: "Буду лечить вас сам". Вывел нас на улицу в одних гимнастерках, мороз ниже 40°, построю колонну по три, скомандовал: — С места бегом марш!
Гонял часа полтора, то бегом, то строевым шагом, разумеется, гонял сам, а поручил сержанту. Многие не выдерживали мучения, падали, ТАК начальник школы подымал лежащих пинками и кулаками.
Доведенные до истощения, изнуренные бессмысленными занятия курсанты, среди них были и побывавшие уже на фронте, пришедшие в школу после лечения в госпиталях, — требовали отправить поскорее на фронт.
В то время я страдал не только от недоедания и больной руки, у меня была изжога, заглушить ее требовалась сода столовая или мел, которые доел было трудно, потому что нам не разрешалось отлучаться даже на пятнадцать минут.
Однажды написал письмо своему тестю, проживавшему на станции Шира попросил его привезти мне соды или мела. Через несколько дней тесть приехал и привез соды, сухарей три кило и спирту двести пятьдесят граммов. Несколько дней у меня был праздник.
Несмотря на строгий режим, мы все же отлучались на несколько часов расположения, обычно после занятий, перед ужином. Как-то мы пришли на занятия перед ужином, я не доложил командиру, не взяв увольнительную, удрал из расположения по молоко. На дороге в город меня встретил наш командир полка, подполковник Засипайло, шедший с дамой под ручку, остановил меня и потребовал увольнительную. Я сказал, что увольнительной нету, а иду за молоком, у меня сильная изжога. Подполковник скомандовал: "Кругом!" — и велел мне доложить взводному командиру о том, что он, командир полка, приказал дать мне два наряда вне очереди. Я сказал: — "Есть доложить взводному командиру!" — и поплелся обратно, повесив голову, но как только скрылся подполковник из виду, повернул и побежал по молоко. В казарму успел вернуться к ужину. По дороге обратно я задумался: докладывать или не докладывать командиру взвода о приказе подполковника? Решил не докладывать.
После этого случая с молоком я запомнил не только фамилию командира полка Засипайло, но и его голос, который потом, через несколько лет, помог мне признать его, но речь об этом будет позже.
НА ФРОНТ
Конец марта. Весть о том, что поедем, узнали дня за три раньше. Готовились к отъезду, грузились в вагоны, радовались и печалились. Радовались тому, что наконец-то пришел конец почти бесполезным занятиям, а печалились потому, что уезжали далеко от дома, на фронт, и сможет ли кто-либо вернуться домой живым и здоровым?.. Везли в товарных вагонах, не очень быстро, с нами проводились политбеседы замполитами.
В Новосибирске переобмундировали, выдали летнее обмундирование, а время было еще морозное. Мне очень было жалко расставаться с шапкой, мне подарил ее тувинец Ложанчай. Она была особенная, сшита из шкурки жеребенка-выкидыша, рыже-золотистая, с гривкой от козырька до затылка. Офицер сразу напялил ее на себя. Дорога показалась длинной, ехали долго. На станциях и полустанках выходить из вагонов не разрешалось, но мы ухитрялись и выходили на платформу, и покупали у торговок продукты — хлеб, молоко. На одной из станций я купил буханочку хлеба за пятьдесят рублей, она оказалась совсем не соленой.
Пока доехали до места — город Каменск Ворошиловградской области — было два случая дезертирства; одного такого случая я был свидетелем. На одной из станций мы пошли на кухню за обедом, у каждого по два котелка, когда получили суп, пошли в свои вагоны. В это время проходил встречный поезд, один солдат, получивший обед, бросил котелки, а сам поднырнул под вагон нашего поезда и прыгнул в проходящий на восток эшелон, сбежал. Не прошло и трех дней, как его задержали и доставили в полк. Это было уже на месте, в городе Каменске, куда мы прибыли и выгрузились. Полк построили и объявили о суде трибунала над дезертиром, тем самым, который бросил котелки. Дезертира расстреляли на глазах всего полка.
В Каменске нам выдали винтовки и по десять штук патронов. Опять начались занятия: теория и тактика. Ночью с появлением немецких самоле¬тов нас подымали по тревоге. Самолеты шли на восток, их видно было в перекрестие прожекторов. По самолетам били наши зенитки, но самолеты шли высоко, на недосягаемом расстоянии. Хотя не бомбили нас, но настроение у нас было, откровенно говоря, паническое. С приближением к фронту стали привыкать. При бомбежках паники не наблюдалось, укрывались организованно и спокойно, когда появлялась немецкая авиация.
В городе Каменске простояли весь май и половину июня. Готовились к предстоящим боям, занимались военной игрой. Ходили в походы, учились стрелять. Питание было тоже неважное: шестьсот граммов хлеба, тарелка супа из квашеной капусты. В Каменске нам присвоили звание младших командиров — сержантов.
В конце июня пошли ближе к фронту, переходы были тяжелые. Особен¬но днем при жаре. Много было отстающих, особенно когда проходили мимо какой-нибудь деревни. Отличались в большинстве узбеки. Если узнают, что скоро будет хутор или деревня, начинали отставать под всякими предлогами — то ботинок жмет ногу, то мозоли на ногах и тому подобное. Как только зайдем в деревню, "больные" бегом пошли по дворам, из хаты в хату шнырять, выпрашивать у теток хлеб, картошку, молоко, все что можно есть. Мне было приказано собирать отстающих, я собирал их и приводил в назначенные места.
Однажды проходили мимо деревни, которая стояла в стороне от главной дороги. Из нее вышли женщины с разными кошелками, корзинами, глечи¬ками и узелками. Смотрю, из нашей роты побежали человек пять, не обра¬щая внимания на окрики командиров. Когда я побежал за ними, один солдат уже подскочил к женщине, стоявшей с глечиком в руках, сбросил пилотку с головы, подставил ее под глечик:
— Лей, тетка, в пилотку, чего стоишь! — она опрокинула горшок в пилотку. Солдат на мой окрик повернул обратно, на ходу пьет простоквашу из пилотки, она плещется и течет по подбородку, подбежал к колонне, пилотку нахлобучил себе на голову, облившись простоквашей с головы до ног. Этот эпизод развеселил весь взвод: усталость как рукой сняло, смеялись все, кто видел это представление, — спектакль, да и только!
КОНТУЗИЯ
На фронт шли маршем только ночью, а днем только в пасмурную погоду, Л. потому что в ясную погоду летали немецкие самолеты. Дневали по балкам с зарослями. Однажды наш полк, не доходя до города Краснодона километ¬ров тридцать, сделал привал. Объявили привал на два часа. Мы, как снопы, повалились и уснули. Не знаю, сколько времени прошло. Когда услышал выстрел, проснулся, ожидал еще стрельбу, но выстрелов больше не после¬довало, и я снова заснул. Утром после завтрака нас, несколько человек, отправили в штаб полка слушать, как будут судить трибуналом того солдата, который стрелял себе в правую руку, стоя на посту. Солдат оказался молодой, на гражданке агроном. Плакал и очень просил помиловать его, но его тут же расстреляли на наших глазах.
Потом, в тот же день знакомились с газами, надевали противогазы. Мне достался неисправный, и я чуть не отравился, проходя зону, зараженную газом с запахом прелого сена. После обеда проходили танковую 'обкатку". Загнали в выкопанные траншеи и начали "утюжить" танками, некоторые не выдерживали, выскакивали из траншей, убегали, их снова загоняли в траншеи. Я, хотя трясся, как кролик, все же танк пропустил над собой и метнул "гранату"-болванку в зад танка. Танк был подорван условно, за это многие из нас получили от командира батальона благодарности.
На второй день снова марш в направлении города Краснодона. По дороге навстречу нам двигались беженцы: на машинах, лошадях, быках, коровах, впряженных в арбу попарно, загруженных барахлом, детворой и престарелы¬ми. Шли женщины, подростки и пожилые мужчины, впряженные в тачки, груженные тряпьем и малыми детьми. Шли и солдаты (дезертиры), тащив¬шие винтовки за ствол по земле прикладом, и без винтовок, со скатками за плечами. Весь этот безумный хаос в панике бежал на восток. В стороне от людей гнали скот, коров, овец, свиней и молодняк лошадей. На вопрос солдатам (дезертирам), почему они бросили фронт и драпают, как бараны, в ответ услышали грубую матерщину. Один из них, а их было пятеро, все же сказал: 'Идите, посмотрите, что творится на фронте, тогда поймете, почему мы уходим подальше от этого ада". Конечно, думаю, не ушли далеко на восток эти вояки, наверняка задержаны войсками заграждения в тылу.
Проходили мы севернее Краснодона вблизи города, нам еще попадались беженцы: группами и поодиночке, а также среди беженцев дезертиры. Западнее Краснодона заняли оборону. Там уже кем-то были выкопаны траншеи в профиль, в рост человека, сооружены доты и дзоты, вырыты противотанковые рвы. Мне приказали занять дот, долговременную оборонительную точку. Я в то время был пулеметчиком, номером первым ручного пулемета, хотя не имел представления, как из него стрелять, потому что в полковой школе мы из него не стреляли. Я об этом сказал командиру роты, а он меня упрекнул: учился в полковой школе — должен знать все оружие, находящееся на вооружении Красной Армии. Выдали пулемет, два диска с патронами, дали — напарника в качестве второго номера, но он тоже первый раз взял пулемет в руки, так что мы оба-два оказались вроде пушечного мяса, только с железом. Заняв траншею, я послал второй номер за ужином.
Дот наш был на склоне балки, смотрел амбразурой на запад. Напарник принес котелок каши из пшеницы; только начали есть — внезапно появился на противоположной стороне первый немецкий танк-разведчик. Танк оста¬новился, но не стрелял по нам. Мы же перетрусили, ожидая танковой атаки нашей обороны. Танк постоял с минуту, развернулся и ушел обратно.
С наступлением темноты получили приказ отступить на восток. Уже про¬шли километров пять, как нас снова повернули на запад, приказав занять оборону на только что брошенных нами позициях. Но еще не дошли мы до оставленных позиций (уже рассветало), нас снова завернули на восток. От¬ступали по тем же местам, по которым шли на запад. Отступление проходило ночью, на день окапывались, занимали оборону. Нас обнаруживали и бомбили немцы. Однажды, после ночного марша, заняли оборону. Окопались, а к вечеру снялись с рубежа обороны, пошли дальше, и надо же такому случиться, я забыл малую лопатку в своем окопе, а прошли метров пятьсот. Командир приказал вернуться за лопаткой. Я вернулся, забрал лопатку и хотел выбежать на дорогу, но вдруг увидел людей, ехавших на велосипедах метрах в ста от меня. Сперва я подумал, что едут наши, но услышал чужую речь. По обмунди¬рованию узнать было невозможно, потому как были сумерки. Сообразил, что это немцы. Срываюсь с места, мчусь во всю прыть вдоль дороги кустами, догоняю своих, запыхавшись, докладываю командиру взвода о том, что сзади нас едут на велосипедах немцы. "Сколько?" Но я с перепугу не считал их и не мог назвать цифру. Взвод наш шел замыкающим. Перешли железнодорожное полотно. Тут сзади нас появились, по ту сторону железной дороги, те самые велосипедисты. Остановились по ту сторону дороги, а мы пошли дальше.
В эту ночь справа от нас видно было большое пламя. Немецкая авиация бомбила станцию Лихая, до нас доносился сплошной гул взрывов бомб. Шли ночью стороной от дороги, вошли в село, забитое войсками разных родов. Вся улица была занята разной техникой и войсками.
Полк наш выбрался из села только утром, когда уже рассветало, вышли в степь, шли проселочной дорогой между посевов подсолнуха и кукурузы. Когда взошло солнце, над нами пролетел на бреющем полете самолет с красной звездой на крыльях. До этого я своих самолетов в воздухе не видел. По дороге шли машины и подводы хозяйственных и санитарных подразделений, и той же дорогой шла артиллерийская часть на тракторах и конной тяге. Когда вышли в степь часов в десять утра, появилась немецкая "рама" — корректировщик, а после нее налетела авиация, начала бомбить и расстре¬ливать наши отступающие войска, всюду взлетали в воздух пушки, повозки, машины, слышались крики раненых людей о помощи — был целый ад, а не простое убийство людей. Еще до появления авиации мне было приказано собрать отстающих. Я собрал человек десять, шли стороной от дороги. Очередной налет авиации, бомбежка и расстрел из пулеметов. Мы бежали кукурузой, залегали, снова вскакивали и бежали, возле себя, рядом, видел то живых, то убитых. Бомбы летели, кругом гарь, запах тола, пыль. И брички в воздухе. И это все, что я помню. Это произошло пятнадцатого июля 1942 года, в день моего рождения, в районе станции Лихой. Мне исполнилось в тот день тридцать четыре года. О судьбе своего полка узнал позже. Утро раннее, тихо, ничего не видно и не слышно, в голове шум и какой-то стук, тупая боль. Ощупываю голову — она забинтована, глаз правый опух и ничего не видит. Нога и правая рука, как плети, с тупой болью. Стало светло, вижу левым глазом, лежат много солдат прямо на полу в шинелях и без шинелей с повязками на головах, руках и ногах.
Где я? Что со мной? Ощупываю себя — вроде цел и живой, но ничего не слышу. Спрашиваю поблизости солдат, а те мне ничего не отвечают. Спра¬шивал несколько раз, даже на крик переходил, но они молчали. Тогда я догадался, что онемел и оглох. Сидел я на топчане, без шинели. Через некоторое время принесли кашу и чай, после завтрака принесли костыли. Медсестра поставила укол, промыла рану на голове и перевязала. Потом улыбнулась мне и что-то спросила или сказала. Я замотал головой, показал на свои уши. На бумажке от выпитого порошка написала: "Вы в городе Шахты, у вас тяжелая контузия и скоро поедете с эвакуационным полевым госпиталем". Сколько дней я пробыл у них, не спросил ее, не спросил и какое число.
На второй день утром погода была хорошая, безоблачная. После завтрака и уколов я вышел на улицу. Передо мной был город с многоэтажными домами. Недалеко стоял поезд с вагонами, в вагоны грузили раненых и еще что-то, много народу копошилось возле вагонов. Наверное, часов в девять налетела немецкая авиация и начала бомбить станцию и состав, в который грузили раненых. Горели город и железнодорожная станция, горели вагоны, много вагонов с находящимися там людьми было разбито. При очередном налете самолетов опять бомбили станцию и город. Одна бомба угодила в соседнее здание и разрушила его. У нас создалась паника, выбирались из здания, кто как мог — на костылях, на карачках, ползком; пытались найти спасительное укрытие, но на улице расстреливали с самолетов, из пулеметов. Мне при помощи костылей удалось добраться до следующего перекрестка. Там зашел в открытую калитку ограды небольшого одноэтажного домика. В это время снова начали бомбить, ко мне подошел дед, взял меня под руку, увел в погреб.
В погребе нас было трое: дед, женщина с грудным ребенком и я. Там у них в погребе ночевал, а утром женщина сделала перевязку головы и чем-то промыла, покормила меня, написала записку: "В городе немцы, у нас опасно, добирайся до окраины города, идите с Богом". И я пошел по городу, заходя из хаты в хату, прося еды. Прошел не более одного километра за весь день. Ночевал у казачки. Утром к казачке зашли два румына, потребовали молока, яиц и сала, но у нее ничего этого не было, тогда они начали искать что-нибудь из барахла стянуть, ничего не нашли, ушли, разбросав вещи, разрезав подушку кинжалом, развеяв пух. Утром после мародеров, попрощавшись с хозяйкой, вышел на улицу и... пришел в ужас. Шло несчетное количество машин, полные кузова немецких солдат. Машины с солдатами шли весь день до вечерних сумерек. Дорогу смог перейти, только когда схлынул сплошной поток машин с солдатами. В потемках добрался до окраины города, там попросился у одной бабки ночевать. Ее фамилия Овчинина или Овчинникова, что-то в этом роде. Только хотели укладываться спать, вдруг увидели въезжающие конные повозки, много повозок заехало в огород, поломав изгородь. Это были румыны, они срубали деревца яблонь, вишен, груш — рубили на дрова и готовили пищу в своей солдатской кухне. Нас ни о чем не спрашивали, хотя и видели на мне повязку на голове, наоборот, дали мне порцию румынского супа.
Утром следующего дня опять шли машины по главной дороге, одна за одной, как и вчера, не предоставлялось возможности перейти на другую сторону. Все же удалось, зашел к одним попросить поесть, там я встретился с одним сержантом — командиром второго отделения нашего взвода. Нас покормили — дали по кружке молока и по два коржика на дорогу. Хозяйка сделала мне перевязку и посоветовала идти проселочной дорогой. Поблагодарив ее, написал записку сержанту, в которой просил его не бросать меня и помаленьку двигаться вперед, то есть на восток. В ответ он написал, что на восток не пойдет, а пойдет на запад, так как родина его на западе — Эстония. Так мы с ним расстались. Шел я на восток в стороне от дороги, кукурузным полем. Идти было трудно, костыли цеплялись за каждую стеблину кукурузы, ночевал там же, в кукурузе. Страдал от холода, мерз сильно, так как у меня не было шинели. Ел кукурузные початки, они были мягкие, восковой спелости. Приходилось есть и подсолнечные семечки.
Утром, еще не взошло солнце, пошел на восток, проковылял за день километра четыре, вечером зашел в деревню, названия не помню. Деревня была без жителей, все эвакуировались, уехали на восток, только удалось обнаружить двух стариков, деда и бабку, у них я и ночевал. Рано утром отправился в путь, пошел в степь, опять кукуруза, подсолнухи. Шел вдоль дороги, близко не подходил, боялся, могли заметить, и далеко не отходил — боялся заблудиться. Солнце было высоко, полдень, жара пекла, пить и есть хотелось, я лежал на спине. Вдруг на меня наскочила собака и залаяла.
Я перепугался — думал, схватит меня за горло, раньше таких больших собак не видал. Спустя несколько секунд увидал подходивших ко мне двух немецких солдат. Жду автоматной очереди, но не последовало. Немцы, указав рукой в направлении к дороге, подтолкнули меня стволом автомата и, убедившись, что я могу двигаться сам, пошли дальше, оглядываясь на меня. Вышел к дороге, увидел машину. Машина — наша полуторка. В кузове стояли наши русские солдаты с повязками на головах или подвешенными руками, у некоторых были шинелки в руках, а у большинства не было ничего, в одних гимнастерках. В машину, в кузов меня забросили, как мешок с мякиной, закидывали двое наших солдат и один немец. Очень уж хотелось спросить, нет ли кого из наших, но не мог, и они у меня что-либо спросить не могли: был я глух и нем как пень. По дороге еще несколько человек запихали в машину. К вечеру привезли в лагерь для военнопленных, там нас сбросили с машины.
ПЛЕН
Лагерь — это громадная площадь, сто пятьдесят на сто метров, обнесенная колючей проволокой в два ряда под электрическим током, а по углам лагеря стояли восемь наблюдательных вышек. На каждой вышке находились по четыре солдата с автоматами и двумя пулеметами. После того, как сбро¬сили с машины, меня взял под руку пожилой солдат, он возился со мной дней пять, промывал рану моей мочой; между прочим, моча была у нас единственным лекарством, дезинфицирующим и лечащим. Солдат, лечивший меня мочой, доставал и воду, он тоже был нашего полка, только второго или третьего батальона. Он лечил не только меня, но и других солдат, фамилию его забыл, объяснялись при помощи карандаша. Нога, рука и глаз мой стали почти нормальными, а вот уши не слышали, а речь была очень слабая. Потом мой лекарь привел ко мне солдата средних лет, который назвался врачом, осмотрел меня, сделал мне перевязку, обработав рану мочой, и сказал: "Опасность позади". Спросил, есть ли у меня красноармейская книжка. Я подал ему книжку, он в ней что-то написал, выдрал из книжки три листика и подал мне, потом вытащил блокнот из своего кармана, написал справку, в которой указал: сержант Конев тяжело контужен в районе станции Лихой 15.VII-42, подпись — военврач 795, капитан медслужбы, фамилия неразборчиво. "Возьми и береги, пока живой будешь". Я поблагодарил врача, разумеется, объяснение между нами происходило письменно. Эти два документа мной были зашиты в ошкур штанов. В лагере находилось десять, а может, и все двадцать тысяч наших пленных солдат и офицеров. Говорили так, а сколько в самом деле, никто не знал. Но факт был налицо: народ толпился, словно овцы в тесном загоне. Спали на песке, как снопы, впритирку друг к другу, у многих не было шинелей, в одних гимнастерках. Днем стояла жара невыносимая, жажда мучила. Воду привозили на лошадях в бочках, две бочки на бричке, две пары лошадей. Привозили воду через час-полтора. На такую массу людей. Некоторые, не выдержав жажды, пили свою мочу. Кормили один раз в сутки супом из неободранного проса, пол-литра на человека. Доведенные до отчаяния голодом, люди, получив суп-просо, проглатывали не разжевывая. Шелуха проса, чашечка, облепляла кишечник. В лагере вспыхнула эпидемия дизентерии, в результате — массовая смертность. Туалеты-ямы выкапыва¬лись ежедневно. Яма перекрывалась досками в шахматном порядке, в туалет стояли очереди без перерыва, круглосуточно. Люди умирали, сидя над ячейкой туалета. Мертвых оттаскивали и складывали в стороне. Приходила машина, нагружали в кузов доверху мертвецов. Машина делала в день по пятнадцать-двадцать рейсов. Если перевести на количество людей, умерших от голода и дизентерии, то получится более тысячи в сутки. Тогда как воду подвозили на двух парных бричках, привозили не более 1000 литров, делали три-четыре рейса в день. Норма на пять человек — один литр.
В лагере я вроде бы примирился со своей судьбой. Рука, нога, глаз стали нормально действовать. Сильно заикался, но вслух говорил, рана на голове затянулась. Оставался глухим, хотя врач говорил, что постепенно все будет нормально, и слух восстановится. Как-то утром, стоя в очереди в туалет, я вдруг услышал хохот. Что это? Спросил у впереди стоявшего в очереди, что, мол, там творится? В ответ мне лишь махнули рукой. Я увидел немцев внутрен¬ней охраны, они сбросили в жидкую массу туалета пленного, капитана технической службы. Капитан пытался выбраться из вонючей массы, а немцы палками топили его глубже в жидкость. Окунули с головой и тогда только отступили от него. Бедняжка с головы до ног был мокрый, в человеческой дряни. Издеватели немцы ушли, гогоча и лая. Капитана вытащили из ямы, сняли с него белье и бросили в яму. Белье нашлось, у некоторых были излишки — рубашки, кальсоны, даже брюки нашлись. Обтерли его полотенцами, обмотками обмундировали, одели, лицо и голову обмыли собранной мочой: воды-то не было даже пить.
Однажды, стоя в очереди за водой, вдруг я увидел знакомого мне Коровина Семена, тоже из Тувы, села Турана. Мы обрадовались случайной встрече среди кишащего муравейника людей. Коровин Семен мужик был пробойный, мне с ним стало легче. Он ухитрялся доставать воду вне очереди, хотя это был большой риск для его жизни.
Днем мы наблюдали и завидовали тем, к кому приходили родственники, приносили передачи. Конечно, таких было немного, из местных и близких деревень или городов Украины. Родственники ходили по лагерям, разыскивали своих близких и нередко находили их и приносили продукты. Мы днем подбирали подходящий объект-жертву — получившего передачку. Из виду его не выпускали до самой ночи. Как только наступала ночь, мои друзья уходили на операцию, а я оставался с вещами в условленном месте. Утром друзья мои возвращались с трофеями, обчистив намеченную жертву. Трофеи слагались: хлеб, сухари, сало, масло и прочая снедь. Однажды я сшил мешочек из полотенца, пометил химическим карандашом П. М. М., что обозначало выдуманную мною фамилию, имя, отчество. Подик Михаил Максимович. Написал письмо неизвестно кому с просьбой принести что-нибудь поесть, в записке просил передачу вручить тому, кто назовет правильный пароль, указанный в мешочке с буквами П. М. М. Положил письмо и 50 рублей в мешочек. Почту перебросил за проволочное заграждение прямо к ногам стояцших теток и молодок. Одна из женщин подняла и ушла. Мы простояли возле заграждения до ночи, но так в тот день не пришел никто.
На другой день мы снова стали дежурить у проволочного заграждения. Ждем и гадаем: принесут — не принесут. Где-то около полудня я ушел в туалет, а Коровин с Кармановым остались дежурить возле проволоки. Вдруг подбегает к туалету Коровин, руками машет, кричит: Сенька, скорее идем, тебе передачку принесли, зовут тебя! Когда я подошел к проволоке, там была целая свалка. Наперебой кричали и доказывали женщине, стоявшей по ту сторону заграж
ВОЙНА
ЗАПИСКИ СОЛДАТА
Журнал «Наш современник», №5, 2000. С.3-47.
КОНЕВ Семен Климентъевич родился в 1907 году в старообрядческой семье в верховьях Енисея в Туве. После революции отрекся от старообрядческих традиций своих предков, стал коммунистом. В 1934 году был исключен из партии. Работал на золотодобыче, затем — строителем, забойщиком на руднике, кочегаром. В 1937 году прошел курсы счетоводов в Кызыле (тогда — Белоцарск) и направлен в местечко Чадан. Тува тогда не входила в состав СССР. Участник Великой Отечественной войны с февраля 1942 года. После войны работал бухгалтером в городе Шагонар.
Вырастил семерых детей. Скончался в 1995 году. Публикуемые воспоминания написаны им в 1982—1990 годы.
Предисловия Владимира Крупина и Анатолия Заболоцкого
Как определить жанр той работы, которую мы сегодня печатаем? Что это? Повесть? Нет. Хотя все законы повести выдержаны: идет развитие и действия и характера, есть и завязка — плен, и развязка — освобождение. Но это не повесть. И не рассказ. Даже и не записки. Это вообще не поддается литературоведческому анализу. Перед нами свидетельство очевидца. Перед нами именно то, что говорит правду о войне.
Хорошо, что в свое время тетради С. К. Конева не были напечатаны в искаженном виде. Они были местным Кызылским издательством подготовлены к печати. Но в каком виде? Написанное от первого лица произведение, говорящее языком участника событий, превратилось в победный рассказ, где советский солдат 'одним махом семерых побивахом". Нет, победа, а мы победили главную чуму двадцатого века — фашизм, досталась нам таким напряжением сил, такими потерями, что мы до сих пор не можем утвердиться на ногах именно из-за этой войны.
Даже и дети Семена Климентьевича относились к этим тетрадям насмешливо, уже и внукам они были ни к чему. Но они не могли погибнуть. Не могли именно в силу той обжигающей и одновременно обыденной правды войны. Солдат не опускается до уровня иных писателей, которые пишут матом о войне, или до других, которые учат жить полководцев и сводят запоздалые счеты с Генштабом, солдат Конев жил в обстоятельствах, в которые его ставила жизнь. Никого не обвиняя, никому слова плохого не говоря, он всю жизнь бурлачил, тянул лямку русской действительности, менял, по необходимости, плуг на винтовку и опять винтовку на плуги отошел к небесам, ничего не нажив в земной жизни. Но сохранив душу. А русская душа бессмертна. Первый, кто оценил и этим спас рукопись от гибели, был Анатолий Заболоцкий, кинооператор, выпустивший несколько фотокниг, календарей, снявший фильмы "Калина красная", "Печки-лавочки", "Целуются зори", "Все впереди", "Мелочи жизни", "Через кладбище" и другие... Именно он привез со своей родины, из Сибири, с берегов Енисея эти солдатские тетради. Их оставшиеся родственники хотели уже попросту выкинуть, но, слава Богу, решили показать земляку. Анатолий Дмитриевич сразу ощутил то, что называется подлинностью, то, что никаким образованием не достигнешь: это выстраданный, пережитый и настолько искренний рассказ о себе и жизни, что диву даешься, как человек бесстрашно пишет обо всем. Это бесстрашие чисто русское: если так было, если я именно так поступил, то я и рассказываю все как на исповеди. Человек с тремя классами образования понял, что судьба (а это слово происходит от слов "суд Божий") провела именно его через такие испытания, и он обязан рассказать эту правду тем, кто ее не знает. Правдивость рукописи сопротивляется вмешательству редакторского каран-даша. Тут ни убавить, ни прибавить. Такая была война, в такой войне мы выстояли, такой наш солдат. Думаю, что только равнодушные могут не понять, что перед ними.
Владимир КРУПИН
Предлагаемый читателям текст представляет собой быль, удержанную цепкой памятью сибиряка из Тувы, колхозного счетовода Семена Климеитьевича Конева (выходца из семьи староверов). Повествование Конева относится к периоду Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Он был человеком упористым и добился участия в его труде профессионального журналиста В. А. Бузыкаева, написавшего по рукописи Конева свою версию, где автор выступает в третьем лице и лишь кое-где цитируется. Кызылское издательство готовило выпуск этой обработки в 1993 году, но в горбачевскую перестройку издательство прекратило существование.
Летом 1997 года мне пришлось неделю пережидать непогоду в Шагонаре (в Туве) у Сергея Семеновича Конева, сына С. К. Конева. Однажды вечером он предложил мне почитать версию Бузыкаева. Мне скоро стало ясно, что журналист допустил непозволительное вмешательство в оригинальное повествование из цензурных соображений. Тогда я попросил дать мне авторские записи. Это была амбарная тетрадь, исписанная неразборчивым почерком. Из разговоров с потомками Семена Климентьевича я понял, что они не читали оригинального текста, знали его только по варианту Бузыкаева и относились к писаниям предка с иронией, считая их старческой блажью. Совершенно очевидно, что сам Семен Климентьевич ценил свой хроникальный труд и прилагал немало стараний для его опубликования. Самобытные записи Конева не нуждаются в посторонней литературной обработке, поскольку автор был человеком одаренным от природы. Думаю, что из подобных повествований, зафиксированных в таких тетрадях, как коневская, и составится в итоге истинная история Великой Отечественной войны.
Судьба С. К. Конева — это лишь один пример из миллионов трагедий в той страшной войне, когда уничтожались люди, города, деревни. Живые строки Конева свидетельствуют о геноциде русского народа. Сегодня, когда на слуху холокост и реституция, нелишне вспомнить, что нашим страдальцам никто не предлагает ни материальных компенсаций, ни восстановления хотя бы части из тех сотен музеев и библиотек, что были разграблены, зато бывшие грабители требуют возвращения их ценностей, полученных нашими музеями по репарациям.
Анатолий ЗАБОЛОЦКИЙ
ПРИЗЫВ В АРМИЮ
В 1941 году я жил на Опытной станции, недалеко от Чадана Дзум-Хемчихского хотуна Тувы. Работал счетоводом. В августе 1941 года была сформирована дружина ополченцев в составе 30 человек. Командиром группы был избран главный агроном Опытной станции Сотников Владимир Петрович. После работы мы ежедневно, а в выходные дни целый день обучались воен¬ному делу. Зубрили устав строевой и караульной службы, учились стрелять.
Когда выпал снег, стали на лыжах делать походы в город Чадан, это восемнадцать километров. Однажды вышли на тактическое занятие с охот-ничьими ружьями, заряженными холостыми патронами, разумеется. Группы разделили на "белых" и "красных". Начались поиски противника, вскоре начался "бой". И в этом бою был ранен в руку ополченец Чодураа. Боец Муравьев выстрелил дробовым зарядом, к счастью, Чодураа находился на далеком расстоянии, да еще в полушубке, дробь застряла в шерсти рукава. После этого ЧП занятия проводились без оружия, с палками.
6 февраля 1942 года ездили в город Чадан на призывной пункт, а вечером того же дня вернулись домой. На сборы дали одни сутки. Мне нужно было сдать бухгалтерию, собрать и перевезти в Чадан семью. Бухгалтерию некому было сдавать, а семью — пять ребятишек, жену с грудным ребенком — перевез в Чадан, оставил в холодной избе. Поздно вечером после короткого митинга в клубе нам дали подарки. Потом усадили в грузовые машины некрытые, мороз был до сорока градусов, а у нас одежка была неважная.
В Кызыл приехали восьмого февраля, а девятого нас повели в клуб на судебный процесс. Судили Губиных, мужа с женой, которые увезли своих семерых детей в тайгу и бросили там. Все дети в тайге замерзли. Возраст детей от 1 года до 16, старшая сестра шестнадцати лет старалась спасти младших братишек и сестренок до тех пор, пока сама не замерзла. Похоронив младших, она пыталась выйти из тайги, но заблудилась.
Суд приговорил обоих родителей к высшей мере наказания — расстрелу. После оглашения приговора эти фанатики и негодяи заявили, что они теперь на том свете будут вместе с детьми в раю. Присутствующая публика была возмущена и требовала самих их заморозить.
10 февраля нас посадили в грузовики и повезли за границу — в СССР, в то время еще была русско-тувинская граница. Всего нас было из Опытной станции семь человек: А. Охотников, И. Глухих, Т. Попков, А. С. Даньков, С. Горбунов, С. К. Конев, Зрюкин. Последний, потом говорили, дезертиро¬вал. Домой вернулись двое — я и Даньков. Четверо погибли.
На границе встретил своего дядю Федота и его сына Иллариона Тара-кановых (Илларион потом погиб на фронте).) Ехали через Минусинск. В городе было много военных и ...попрошаек. В столовой нам подали галушки, мы их есть не стали, а достали свои харчи, взятые из дому. В столовой впервые услышал матерную брань. У нас в Туве этой матерщины не слыша¬ли, никто не матерился. Попрошайки, детишки, подростки и взрослые буквально окружили наши столы и выпрашивали что-нибудь, хлеб или галушки. После завтрака я сходил на рынок, продал свитер и еще кое-что.
Через неделю мы прибыли в поселок Заозерный. Нас поместили в хо-лодный клуб и держали до утра.
Днем стали формировать учебные батальоны и роты. Повели на полигон,
на стрельбище я выбил на дистанции сто метров двадцать семь очков из тридцати возможных. Стреляли из винтовки-трехлинейки. Меня направил в полковую школу во взвод снайперов. С восьми утра до шести вечера шли тактические занятия. После ужина до десяти часов вечера — изучен» материальной части и устава караульной службы. Материальную часть изучал! в основном русскую трехлинейную винтовку — разобрать, собрать — и во Хотя формально числились взводы стрелковый, пулеметный, минометный снайперский, саперный, связной, артиллерийский, а фактически все занимались изучением стрелкового дела и, в основном, ежедневно ползали на брюхе по- пластунски, месили снег, кололи палками чучела — набитые соломой мешки. Практической стрельбой совсем не занимались. Наш взвод, снайперский, даже не имел оптического прицела. Да и остальные курсанты не произвели ни одного выстрела из обычной трехлинейной винтовки. Подготовка будучи младших командиров, можно сказать, не велась. Из высокого начальства никто не интересовался нами и всей школой. Начальник школы и командир взводов пьянствовали, доверили учебу младшим командирам — сержанта! Мы страшно уставали и всегда были голодные. Наркомовская норма пайка до нас не доходила, ее растаскивали, меняли на самогон старшина, повар другие ихние друзья. Все происходило на глазах у самого начальника школы, но он мер не принимал. Курсанты ослабли от истощения, стали болеть, ходить с опухшими ногами и руками. Больных направляли в санчасть, врачи-евреи выпроваживали больных обратно, не оказав никакой помощи и не дав больно; справки об освобождении от занятий.
Как-то в конце марта меня отправили в лес за дровами на лошади, быстро съездил, привез сырого березняка, с работой справился к обеду решил, что после обеда смогу написать письмо да сходить за молоком, но ошибся. После обеда, как только курсанты ушли на занятия, дежурный по школе заставил меня мыть полы в казарме. Что делать? Тряпку в ведро давай возить по полу, а пол был не крашен, и я засадил занозу в пал правой руки. В тот же вечер палец начал нарывать, на второй день рука распухла до локтя, ладонь нельзя было впихнуть в рукавицу. Я отпросил сходить в санчасть, а там не стали смотреть и слушать меня, выгнали всех. Видели мою руку командиры и сам начальник школы, но от занятий освободили. Палец спать не давал, я накаливал докрасна иголку, прокалывал нарыв, выпускал гной из пальца, а потом привязывал мякиш хлеба к нему.
Однажды утром нас, больных, построили в казарме. Начальник школы, подполковник (грузин) скомандовал: "Больным выйти из строя три пм вперед!" Вышло человек тридцать, почти половина состава школы. Ocтальных приказал лейтенанту увести на занятия, а нам заявил: "Буду лечить вас сам". Вывел нас на улицу в одних гимнастерках, мороз ниже 40°, построю колонну по три, скомандовал: — С места бегом марш!
Гонял часа полтора, то бегом, то строевым шагом, разумеется, гонял сам, а поручил сержанту. Многие не выдерживали мучения, падали, ТАК начальник школы подымал лежащих пинками и кулаками.
Доведенные до истощения, изнуренные бессмысленными занятия курсанты, среди них были и побывавшие уже на фронте, пришедшие в школу после лечения в госпиталях, — требовали отправить поскорее на фронт.
В то время я страдал не только от недоедания и больной руки, у меня была изжога, заглушить ее требовалась сода столовая или мел, которые доел было трудно, потому что нам не разрешалось отлучаться даже на пятнадцать минут.
Однажды написал письмо своему тестю, проживавшему на станции Шира попросил его привезти мне соды или мела. Через несколько дней тесть приехал и привез соды, сухарей три кило и спирту двести пятьдесят граммов. Несколько дней у меня был праздник.
Несмотря на строгий режим, мы все же отлучались на несколько часов расположения, обычно после занятий, перед ужином. Как-то мы пришли на занятия перед ужином, я не доложил командиру, не взяв увольнительную, удрал из расположения по молоко. На дороге в город меня встретил наш командир полка, подполковник Засипайло, шедший с дамой под ручку, остановил меня и потребовал увольнительную. Я сказал, что увольнительной нету, а иду за молоком, у меня сильная изжога. Подполковник скомандовал: "Кругом!" — и велел мне доложить взводному командиру о том, что он, командир полка, приказал дать мне два наряда вне очереди. Я сказал: — "Есть доложить взводному командиру!" — и поплелся обратно, повесив голову, но как только скрылся подполковник из виду, повернул и побежал по молоко. В казарму успел вернуться к ужину. По дороге обратно я задумался: докладывать или не докладывать командиру взвода о приказе подполковника? Решил не докладывать.
После этого случая с молоком я запомнил не только фамилию командира полка Засипайло, но и его голос, который потом, через несколько лет, помог мне признать его, но речь об этом будет позже.
НА ФРОНТ
Конец марта. Весть о том, что поедем, узнали дня за три раньше. Готовились к отъезду, грузились в вагоны, радовались и печалились. Радовались тому, что наконец-то пришел конец почти бесполезным занятиям, а печалились потому, что уезжали далеко от дома, на фронт, и сможет ли кто-либо вернуться домой живым и здоровым?.. Везли в товарных вагонах, не очень быстро, с нами проводились политбеседы замполитами.
В Новосибирске переобмундировали, выдали летнее обмундирование, а время было еще морозное. Мне очень было жалко расставаться с шапкой, мне подарил ее тувинец Ложанчай. Она была особенная, сшита из шкурки жеребенка-выкидыша, рыже-золотистая, с гривкой от козырька до затылка. Офицер сразу напялил ее на себя. Дорога показалась длинной, ехали долго. На станциях и полустанках выходить из вагонов не разрешалось, но мы ухитрялись и выходили на платформу, и покупали у торговок продукты — хлеб, молоко. На одной из станций я купил буханочку хлеба за пятьдесят рублей, она оказалась совсем не соленой.
Пока доехали до места — город Каменск Ворошиловградской области — было два случая дезертирства; одного такого случая я был свидетелем. На одной из станций мы пошли на кухню за обедом, у каждого по два котелка, когда получили суп, пошли в свои вагоны. В это время проходил встречный поезд, один солдат, получивший обед, бросил котелки, а сам поднырнул под вагон нашего поезда и прыгнул в проходящий на восток эшелон, сбежал. Не прошло и трех дней, как его задержали и доставили в полк. Это было уже на месте, в городе Каменске, куда мы прибыли и выгрузились. Полк построили и объявили о суде трибунала над дезертиром, тем самым, который бросил котелки. Дезертира расстреляли на глазах всего полка.
В Каменске нам выдали винтовки и по десять штук патронов. Опять начались занятия: теория и тактика. Ночью с появлением немецких самоле¬тов нас подымали по тревоге. Самолеты шли на восток, их видно было в перекрестие прожекторов. По самолетам били наши зенитки, но самолеты шли высоко, на недосягаемом расстоянии. Хотя не бомбили нас, но настроение у нас было, откровенно говоря, паническое. С приближением к фронту стали привыкать. При бомбежках паники не наблюдалось, укрывались организованно и спокойно, когда появлялась немецкая авиация.
В городе Каменске простояли весь май и половину июня. Готовились к предстоящим боям, занимались военной игрой. Ходили в походы, учились стрелять. Питание было тоже неважное: шестьсот граммов хлеба, тарелка супа из квашеной капусты. В Каменске нам присвоили звание младших командиров — сержантов.
В конце июня пошли ближе к фронту, переходы были тяжелые. Особен¬но днем при жаре. Много было отстающих, особенно когда проходили мимо какой-нибудь деревни. Отличались в большинстве узбеки. Если узнают, что скоро будет хутор или деревня, начинали отставать под всякими предлогами — то ботинок жмет ногу, то мозоли на ногах и тому подобное. Как только зайдем в деревню, "больные" бегом пошли по дворам, из хаты в хату шнырять, выпрашивать у теток хлеб, картошку, молоко, все что можно есть. Мне было приказано собирать отстающих, я собирал их и приводил в назначенные места.
Однажды проходили мимо деревни, которая стояла в стороне от главной дороги. Из нее вышли женщины с разными кошелками, корзинами, глечи¬ками и узелками. Смотрю, из нашей роты побежали человек пять, не обра¬щая внимания на окрики командиров. Когда я побежал за ними, один солдат уже подскочил к женщине, стоявшей с глечиком в руках, сбросил пилотку с головы, подставил ее под глечик:
— Лей, тетка, в пилотку, чего стоишь! — она опрокинула горшок в пилотку. Солдат на мой окрик повернул обратно, на ходу пьет простоквашу из пилотки, она плещется и течет по подбородку, подбежал к колонне, пилотку нахлобучил себе на голову, облившись простоквашей с головы до ног. Этот эпизод развеселил весь взвод: усталость как рукой сняло, смеялись все, кто видел это представление, — спектакль, да и только!
КОНТУЗИЯ
На фронт шли маршем только ночью, а днем только в пасмурную погоду, Л. потому что в ясную погоду летали немецкие самолеты. Дневали по балкам с зарослями. Однажды наш полк, не доходя до города Краснодона километ¬ров тридцать, сделал привал. Объявили привал на два часа. Мы, как снопы, повалились и уснули. Не знаю, сколько времени прошло. Когда услышал выстрел, проснулся, ожидал еще стрельбу, но выстрелов больше не после¬довало, и я снова заснул. Утром после завтрака нас, несколько человек, отправили в штаб полка слушать, как будут судить трибуналом того солдата, который стрелял себе в правую руку, стоя на посту. Солдат оказался молодой, на гражданке агроном. Плакал и очень просил помиловать его, но его тут же расстреляли на наших глазах.
Потом, в тот же день знакомились с газами, надевали противогазы. Мне достался неисправный, и я чуть не отравился, проходя зону, зараженную газом с запахом прелого сена. После обеда проходили танковую 'обкатку". Загнали в выкопанные траншеи и начали "утюжить" танками, некоторые не выдерживали, выскакивали из траншей, убегали, их снова загоняли в траншеи. Я, хотя трясся, как кролик, все же танк пропустил над собой и метнул "гранату"-болванку в зад танка. Танк был подорван условно, за это многие из нас получили от командира батальона благодарности.
На второй день снова марш в направлении города Краснодона. По дороге навстречу нам двигались беженцы: на машинах, лошадях, быках, коровах, впряженных в арбу попарно, загруженных барахлом, детворой и престарелы¬ми. Шли женщины, подростки и пожилые мужчины, впряженные в тачки, груженные тряпьем и малыми детьми. Шли и солдаты (дезертиры), тащив¬шие винтовки за ствол по земле прикладом, и без винтовок, со скатками за плечами. Весь этот безумный хаос в панике бежал на восток. В стороне от людей гнали скот, коров, овец, свиней и молодняк лошадей. На вопрос солдатам (дезертирам), почему они бросили фронт и драпают, как бараны, в ответ услышали грубую матерщину. Один из них, а их было пятеро, все же сказал: 'Идите, посмотрите, что творится на фронте, тогда поймете, почему мы уходим подальше от этого ада". Конечно, думаю, не ушли далеко на восток эти вояки, наверняка задержаны войсками заграждения в тылу.
Проходили мы севернее Краснодона вблизи города, нам еще попадались беженцы: группами и поодиночке, а также среди беженцев дезертиры. Западнее Краснодона заняли оборону. Там уже кем-то были выкопаны траншеи в профиль, в рост человека, сооружены доты и дзоты, вырыты противотанковые рвы. Мне приказали занять дот, долговременную оборонительную точку. Я в то время был пулеметчиком, номером первым ручного пулемета, хотя не имел представления, как из него стрелять, потому что в полковой школе мы из него не стреляли. Я об этом сказал командиру роты, а он меня упрекнул: учился в полковой школе — должен знать все оружие, находящееся на вооружении Красной Армии. Выдали пулемет, два диска с патронами, дали — напарника в качестве второго номера, но он тоже первый раз взял пулемет в руки, так что мы оба-два оказались вроде пушечного мяса, только с железом. Заняв траншею, я послал второй номер за ужином.
Дот наш был на склоне балки, смотрел амбразурой на запад. Напарник принес котелок каши из пшеницы; только начали есть — внезапно появился на противоположной стороне первый немецкий танк-разведчик. Танк оста¬новился, но не стрелял по нам. Мы же перетрусили, ожидая танковой атаки нашей обороны. Танк постоял с минуту, развернулся и ушел обратно.
С наступлением темноты получили приказ отступить на восток. Уже про¬шли километров пять, как нас снова повернули на запад, приказав занять оборону на только что брошенных нами позициях. Но еще не дошли мы до оставленных позиций (уже рассветало), нас снова завернули на восток. От¬ступали по тем же местам, по которым шли на запад. Отступление проходило ночью, на день окапывались, занимали оборону. Нас обнаруживали и бомбили немцы. Однажды, после ночного марша, заняли оборону. Окопались, а к вечеру снялись с рубежа обороны, пошли дальше, и надо же такому случиться, я забыл малую лопатку в своем окопе, а прошли метров пятьсот. Командир приказал вернуться за лопаткой. Я вернулся, забрал лопатку и хотел выбежать на дорогу, но вдруг увидел людей, ехавших на велосипедах метрах в ста от меня. Сперва я подумал, что едут наши, но услышал чужую речь. По обмунди¬рованию узнать было невозможно, потому как были сумерки. Сообразил, что это немцы. Срываюсь с места, мчусь во всю прыть вдоль дороги кустами, догоняю своих, запыхавшись, докладываю командиру взвода о том, что сзади нас едут на велосипедах немцы. "Сколько?" Но я с перепугу не считал их и не мог назвать цифру. Взвод наш шел замыкающим. Перешли железнодорожное полотно. Тут сзади нас появились, по ту сторону железной дороги, те самые велосипедисты. Остановились по ту сторону дороги, а мы пошли дальше.
В эту ночь справа от нас видно было большое пламя. Немецкая авиация бомбила станцию Лихая, до нас доносился сплошной гул взрывов бомб. Шли ночью стороной от дороги, вошли в село, забитое войсками разных родов. Вся улица была занята разной техникой и войсками.
Полк наш выбрался из села только утром, когда уже рассветало, вышли в степь, шли проселочной дорогой между посевов подсолнуха и кукурузы. Когда взошло солнце, над нами пролетел на бреющем полете самолет с красной звездой на крыльях. До этого я своих самолетов в воздухе не видел. По дороге шли машины и подводы хозяйственных и санитарных подразделений, и той же дорогой шла артиллерийская часть на тракторах и конной тяге. Когда вышли в степь часов в десять утра, появилась немецкая "рама" — корректировщик, а после нее налетела авиация, начала бомбить и расстре¬ливать наши отступающие войска, всюду взлетали в воздух пушки, повозки, машины, слышались крики раненых людей о помощи — был целый ад, а не простое убийство людей. Еще до появления авиации мне было приказано собрать отстающих. Я собрал человек десять, шли стороной от дороги. Очередной налет авиации, бомбежка и расстрел из пулеметов. Мы бежали кукурузой, залегали, снова вскакивали и бежали, возле себя, рядом, видел то живых, то убитых. Бомбы летели, кругом гарь, запах тола, пыль. И брички в воздухе. И это все, что я помню. Это произошло пятнадцатого июля 1942 года, в день моего рождения, в районе станции Лихой. Мне исполнилось в тот день тридцать четыре года. О судьбе своего полка узнал позже. Утро раннее, тихо, ничего не видно и не слышно, в голове шум и какой-то стук, тупая боль. Ощупываю голову — она забинтована, глаз правый опух и ничего не видит. Нога и правая рука, как плети, с тупой болью. Стало светло, вижу левым глазом, лежат много солдат прямо на полу в шинелях и без шинелей с повязками на головах, руках и ногах.
Где я? Что со мной? Ощупываю себя — вроде цел и живой, но ничего не слышу. Спрашиваю поблизости солдат, а те мне ничего не отвечают. Спра¬шивал несколько раз, даже на крик переходил, но они молчали. Тогда я догадался, что онемел и оглох. Сидел я на топчане, без шинели. Через некоторое время принесли кашу и чай, после завтрака принесли костыли. Медсестра поставила укол, промыла рану на голове и перевязала. Потом улыбнулась мне и что-то спросила или сказала. Я замотал головой, показал на свои уши. На бумажке от выпитого порошка написала: "Вы в городе Шахты, у вас тяжелая контузия и скоро поедете с эвакуационным полевым госпиталем". Сколько дней я пробыл у них, не спросил ее, не спросил и какое число.
На второй день утром погода была хорошая, безоблачная. После завтрака и уколов я вышел на улицу. Передо мной был город с многоэтажными домами. Недалеко стоял поезд с вагонами, в вагоны грузили раненых и еще что-то, много народу копошилось возле вагонов. Наверное, часов в девять налетела немецкая авиация и начала бомбить станцию и состав, в который грузили раненых. Горели город и железнодорожная станция, горели вагоны, много вагонов с находящимися там людьми было разбито. При очередном налете самолетов опять бомбили станцию и город. Одна бомба угодила в соседнее здание и разрушила его. У нас создалась паника, выбирались из здания, кто как мог — на костылях, на карачках, ползком; пытались найти спасительное укрытие, но на улице расстреливали с самолетов, из пулеметов. Мне при помощи костылей удалось добраться до следующего перекрестка. Там зашел в открытую калитку ограды небольшого одноэтажного домика. В это время снова начали бомбить, ко мне подошел дед, взял меня под руку, увел в погреб.
В погребе нас было трое: дед, женщина с грудным ребенком и я. Там у них в погребе ночевал, а утром женщина сделала перевязку головы и чем-то промыла, покормила меня, написала записку: "В городе немцы, у нас опасно, добирайся до окраины города, идите с Богом". И я пошел по городу, заходя из хаты в хату, прося еды. Прошел не более одного километра за весь день. Ночевал у казачки. Утром к казачке зашли два румына, потребовали молока, яиц и сала, но у нее ничего этого не было, тогда они начали искать что-нибудь из барахла стянуть, ничего не нашли, ушли, разбросав вещи, разрезав подушку кинжалом, развеяв пух. Утром после мародеров, попрощавшись с хозяйкой, вышел на улицу и... пришел в ужас. Шло несчетное количество машин, полные кузова немецких солдат. Машины с солдатами шли весь день до вечерних сумерек. Дорогу смог перейти, только когда схлынул сплошной поток машин с солдатами. В потемках добрался до окраины города, там попросился у одной бабки ночевать. Ее фамилия Овчинина или Овчинникова, что-то в этом роде. Только хотели укладываться спать, вдруг увидели въезжающие конные повозки, много повозок заехало в огород, поломав изгородь. Это были румыны, они срубали деревца яблонь, вишен, груш — рубили на дрова и готовили пищу в своей солдатской кухне. Нас ни о чем не спрашивали, хотя и видели на мне повязку на голове, наоборот, дали мне порцию румынского супа.
Утром следующего дня опять шли машины по главной дороге, одна за одной, как и вчера, не предоставлялось возможности перейти на другую сторону. Все же удалось, зашел к одним попросить поесть, там я встретился с одним сержантом — командиром второго отделения нашего взвода. Нас покормили — дали по кружке молока и по два коржика на дорогу. Хозяйка сделала мне перевязку и посоветовала идти проселочной дорогой. Поблагодарив ее, написал записку сержанту, в которой просил его не бросать меня и помаленьку двигаться вперед, то есть на восток. В ответ он написал, что на восток не пойдет, а пойдет на запад, так как родина его на западе — Эстония. Так мы с ним расстались. Шел я на восток в стороне от дороги, кукурузным полем. Идти было трудно, костыли цеплялись за каждую стеблину кукурузы, ночевал там же, в кукурузе. Страдал от холода, мерз сильно, так как у меня не было шинели. Ел кукурузные початки, они были мягкие, восковой спелости. Приходилось есть и подсолнечные семечки.
Утром, еще не взошло солнце, пошел на восток, проковылял за день километра четыре, вечером зашел в деревню, названия не помню. Деревня была без жителей, все эвакуировались, уехали на восток, только удалось обнаружить двух стариков, деда и бабку, у них я и ночевал. Рано утром отправился в путь, пошел в степь, опять кукуруза, подсолнухи. Шел вдоль дороги, близко не подходил, боялся, могли заметить, и далеко не отходил — боялся заблудиться. Солнце было высоко, полдень, жара пекла, пить и есть хотелось, я лежал на спине. Вдруг на меня наскочила собака и залаяла.
Я перепугался — думал, схватит меня за горло, раньше таких больших собак не видал. Спустя несколько секунд увидал подходивших ко мне двух немецких солдат. Жду автоматной очереди, но не последовало. Немцы, указав рукой в направлении к дороге, подтолкнули меня стволом автомата и, убедившись, что я могу двигаться сам, пошли дальше, оглядываясь на меня. Вышел к дороге, увидел машину. Машина — наша полуторка. В кузове стояли наши русские солдаты с повязками на головах или подвешенными руками, у некоторых были шинелки в руках, а у большинства не было ничего, в одних гимнастерках. В машину, в кузов меня забросили, как мешок с мякиной, закидывали двое наших солдат и один немец. Очень уж хотелось спросить, нет ли кого из наших, но не мог, и они у меня что-либо спросить не могли: был я глух и нем как пень. По дороге еще несколько человек запихали в машину. К вечеру привезли в лагерь для военнопленных, там нас сбросили с машины.
ПЛЕН
Лагерь — это громадная площадь, сто пятьдесят на сто метров, обнесенная колючей проволокой в два ряда под электрическим током, а по углам лагеря стояли восемь наблюдательных вышек. На каждой вышке находились по четыре солдата с автоматами и двумя пулеметами. После того, как сбро¬сили с машины, меня взял под руку пожилой солдат, он возился со мной дней пять, промывал рану моей мочой; между прочим, моча была у нас единственным лекарством, дезинфицирующим и лечащим. Солдат, лечивший меня мочой, доставал и воду, он тоже был нашего полка, только второго или третьего батальона. Он лечил не только меня, но и других солдат, фамилию его забыл, объяснялись при помощи карандаша. Нога, рука и глаз мой стали почти нормальными, а вот уши не слышали, а речь была очень слабая. Потом мой лекарь привел ко мне солдата средних лет, который назвался врачом, осмотрел меня, сделал мне перевязку, обработав рану мочой, и сказал: "Опасность позади". Спросил, есть ли у меня красноармейская книжка. Я подал ему книжку, он в ней что-то написал, выдрал из книжки три листика и подал мне, потом вытащил блокнот из своего кармана, написал справку, в которой указал: сержант Конев тяжело контужен в районе станции Лихой 15.VII-42, подпись — военврач 795, капитан медслужбы, фамилия неразборчиво. "Возьми и береги, пока живой будешь". Я поблагодарил врача, разумеется, объяснение между нами происходило письменно. Эти два документа мной были зашиты в ошкур штанов. В лагере находилось десять, а может, и все двадцать тысяч наших пленных солдат и офицеров. Говорили так, а сколько в самом деле, никто не знал. Но факт был налицо: народ толпился, словно овцы в тесном загоне. Спали на песке, как снопы, впритирку друг к другу, у многих не было шинелей, в одних гимнастерках. Днем стояла жара невыносимая, жажда мучила. Воду привозили на лошадях в бочках, две бочки на бричке, две пары лошадей. Привозили воду через час-полтора. На такую массу людей. Некоторые, не выдержав жажды, пили свою мочу. Кормили один раз в сутки супом из неободранного проса, пол-литра на человека. Доведенные до отчаяния голодом, люди, получив суп-просо, проглатывали не разжевывая. Шелуха проса, чашечка, облепляла кишечник. В лагере вспыхнула эпидемия дизентерии, в результате — массовая смертность. Туалеты-ямы выкапыва¬лись ежедневно. Яма перекрывалась досками в шахматном порядке, в туалет стояли очереди без перерыва, круглосуточно. Люди умирали, сидя над ячейкой туалета. Мертвых оттаскивали и складывали в стороне. Приходила машина, нагружали в кузов доверху мертвецов. Машина делала в день по пятнадцать-двадцать рейсов. Если перевести на количество людей, умерших от голода и дизентерии, то получится более тысячи в сутки. Тогда как воду подвозили на двух парных бричках, привозили не более 1000 литров, делали три-четыре рейса в день. Норма на пять человек — один литр.
В лагере я вроде бы примирился со своей судьбой. Рука, нога, глаз стали нормально действовать. Сильно заикался, но вслух говорил, рана на голове затянулась. Оставался глухим, хотя врач говорил, что постепенно все будет нормально, и слух восстановится. Как-то утром, стоя в очереди в туалет, я вдруг услышал хохот. Что это? Спросил у впереди стоявшего в очереди, что, мол, там творится? В ответ мне лишь махнули рукой. Я увидел немцев внутрен¬ней охраны, они сбросили в жидкую массу туалета пленного, капитана технической службы. Капитан пытался выбраться из вонючей массы, а немцы палками топили его глубже в жидкость. Окунули с головой и тогда только отступили от него. Бедняжка с головы до ног был мокрый, в человеческой дряни. Издеватели немцы ушли, гогоча и лая. Капитана вытащили из ямы, сняли с него белье и бросили в яму. Белье нашлось, у некоторых были излишки — рубашки, кальсоны, даже брюки нашлись. Обтерли его полотенцами, обмотками обмундировали, одели, лицо и голову обмыли собранной мочой: воды-то не было даже пить.
Однажды, стоя в очереди за водой, вдруг я увидел знакомого мне Коровина Семена, тоже из Тувы, села Турана. Мы обрадовались случайной встрече среди кишащего муравейника людей. Коровин Семен мужик был пробойный, мне с ним стало легче. Он ухитрялся доставать воду вне очереди, хотя это был большой риск для его жизни.
Днем мы наблюдали и завидовали тем, к кому приходили родственники, приносили передачи. Конечно, таких было немного, из местных и близких деревень или городов Украины. Родственники ходили по лагерям, разыскивали своих близких и нередко находили их и приносили продукты. Мы днем подбирали подходящий объект-жертву — получившего передачку. Из виду его не выпускали до самой ночи. Как только наступала ночь, мои друзья уходили на операцию, а я оставался с вещами в условленном месте. Утром друзья мои возвращались с трофеями, обчистив намеченную жертву. Трофеи слагались: хлеб, сухари, сало, масло и прочая снедь. Однажды я сшил мешочек из полотенца, пометил химическим карандашом П. М. М., что обозначало выдуманную мною фамилию, имя, отчество. Подик Михаил Максимович. Написал письмо неизвестно кому с просьбой принести что-нибудь поесть, в записке просил передачу вручить тому, кто назовет правильный пароль, указанный в мешочке с буквами П. М. М. Положил письмо и 50 рублей в мешочек. Почту перебросил за проволочное заграждение прямо к ногам стояцших теток и молодок. Одна из женщин подняла и ушла. Мы простояли возле заграждения до ночи, но так в тот день не пришел никто.
На другой день мы снова стали дежурить у проволочного заграждения. Ждем и гадаем: принесут — не принесут. Где-то около полудня я ушел в туалет, а Коровин с Кармановым остались дежурить возле проволоки. Вдруг подбегает к туалету Коровин, руками машет, кричит: Сенька, скорее идем, тебе передачку принесли, зовут тебя! Когда я подошел к проволоке, там была целая свалка. Наперебой кричали и доказывали женщине, стоявшей по ту сторону заграж
Источник:
Посты на ту же тему


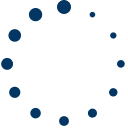
6 комментариев
11 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена11 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена11 лет назад
http://www.proshkolu.ru/club/vov1941-45/file2/120310http://www.proshkolu.ru/club/vov1941-45/file2/120310
Удалить комментарий?
Удалить Отмена11 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена