Николай Кузаков. ТАЙГА — МОЙ ДОМ. Повесть. Часть 1. Добрые духи Авдо
Автор.
Глава 1
Самолёт сделал разворот над аэродромом и взял курс на север. Внизу проплыли пригородные поселки, а затем вдаль и вширь разлилось таёжное безбрежье. Проходит час, другой. Напряженно всматриваюсь в маленькое оконце самолёта: ни единой юрты, ни единого зимовейка, только кое-где белеют небольшие озера. Лес сверху кажется чахлым, похожим на редкую щетку. Горы сгладились и утратили свою первоначальную величавую красоту. И кажется, под нами проплывает холодная безжизненная пустыня, кое-как прикрытая жалкой растительностью.
Но это — обман зрения. Под нами север, суровый и непокорный. В этих краях я родился и вырос. И первое, что увидел в жизни и запомнил, — это синие дали гор, голубые столбы дымокуров возле изб. А еще стаи чаек над рекой.
Моим первым другом был старый пес Варнак. В свое время он верно служил отцу. Теперь плохо слышал, задыхался и, как говорил отец, был списан в куриные сторожа. Я приносил Варнаку лакомства, а потом ездил на нем верхом. Когда надоедало это занятие, мы укрывались где-нибудь в тени. Варнак растягивался на земле, клал морду на лапы и закрывал глаза. Из рассказов отца я знал все «подвиги» моего друга. Я садился рядом с ним и, подражая отцу, начинал говорить: «Вот это ухо Варнаку порвал медведь-шатун в тот год, когда ты, сын, родился. Ох и матёрый зверь был…» Потом я брал лук, и мы шли за амбар стрелять в мишень.
Самым большим событием для нас, мальчишек, были проводы отцов и братьев на охоту. Они уходили в тайгу в середине октября, когда выпадал первый снег. Это было чудесное время. За одну ночь природа преображалась: все вокруг светлело. Остывший воздух становился упругим и звонким. Всюду на снегу виднелись следы зверьков — так тайга перед человеком открывала свои тайны, вводила его в свой загадочный мир. Мы провожали охотников до леса и с завистью смотрели им вслед.
Проходили недели, месяцы, снега заваливали избы, вьюги заметали тропы, а охотники все были в тайге. В длинные зимние вечера, которым не было ни конца ни края, мать рассказывала мне сказки и легенды про охотников и зверей. И передо мной открывался удивительный таёжный мир. Утром я надевал лыжи и отправлялся к горам, но мужества хватало дойти только до опушки леса.
Но вот наступал январь с его морозами, и охотники возвращались из тайги. Они были бородатыми, исхудавшими, пропахшими хвоей, потом и дымом. Нам, ребятишкам, охотники приносили гостинцы: по мешочку серы и испеченные на костре лепешки. В первый же день мы узнавали о тех, кто добывал медведя, а на следующее утро делали берлогу на опушке леса и разыгрывали во всех подробностях схватку охотника со зверем.
…Сорок первый год. Война. Нам пришлось на таежных тропах заменить мужчин, ушедших на фронт. Мы месяцами жили в зимовьях, промышляя белок и медведей, сохатых и горностаев, кормили стариков и женщин.
Дорого доставался нам кусок хлеба: мы блуждали в тайге, утопали в снегах, в сорокаградусные морозы наживали простуду у костров, нередко за свою неопытность расплачивались кровью: в нас стреляли собственные ружья, нас калечили звери.
Теперь все это кажется далеким сном.
…И вот я снова возвращаюсь к порогу своей юности. Впереди показалась река Нёпа, приток Нижней Тунгуски. Будто какой-то великан взмахнул белой лентой, она извилась и упала среди гор. Даже отсюда, с высоты, я узнаю знакомые места. Хребет Юктокон. С высоты он похож на спящего медведя с темным загривком, отливающим зеленью. У его подножия дымится незамерзающее озеро, и кажется, что зверь дышит. Вот сейчас он услышит гул самолета, поднимет морду, покрытую куржаком, и недовольно зарычит на весь лес.
Я внимательно оглядываю тайгу вокруг хребта, надеясь увидеть зимовейко или палатку. Где-то здесь стоянка старой эвенки Авдо, которая во время войны на таежных тропах была для меня и матерью, и старшим товарищем.
Помню, как-то заблудился я, двое суток кружил по тайге, выбился из сил. Разложил костер и отдался на милость судьбы.
Вечером появилась Авдо. Глянула на меня, сбросила понягу, присела у костра.
(Поняга — тонкая еловая доска, сделанная по спине охотника. У нее, как у котомки, две лямки. На эту доску привязываются продукты, топор, дичь. Она удобнее и практичнее котомки. — Прим. авт)
— Совсем худой парень, — проговорила Авдо. — Пошто в зимовье долго не приходишь?
— Заблудился, — отвечаю я, но на Авдо не смотрю: мужчинам позорно плутать по тайге. — Куда ни пойду, а все опять к этому дереву выхожу, — я показал на сломанную ветром лиственницу.
— Маленькие речки переходил? — спросила Авдо.
— Несколько раз. А что?
— Пошто худо думаешь? Куда эти речки текут?
— В реку Непу.
— По ним надо идти. Речки приведут на реку Непу. По ней зимовье найдешь. Все совсем просто.
Не одного меня Авдо выручала из беды, терпеливо учила охотничьему делу.
…Авдо. Какой ты теперь стала? Ведь мы не виделись с тех пор, как я ушел служить в армию. А времени прошло ни много ни мало — около десяти лет.
А вот показался хребет Икандой, похожий на огромный чум. Вершина его голая, присыпанная снегом. На склонах пышно разросся сосновый лес, у подножия протекает река. Она уже замерзла, и только в одном месте виднеется синяя дымящаяся полоска-полынья на перекате. На правом берегу реки десятка два-три домов. Их полукольцом обступил лес. Это деревня Ика.
…Вот и родной дом. Мать постарела, вроде и ростом стала ниже, прибавилось седины, на лбу появились новые морщины. Только глаза остались прежними: внимательными и чуточку задумчивыми. Сестра Надя из худенького нескладного подростка, какой я ее видел в последний раз, превратилась в солидную женщину.
— А где же Авдо? — спросил я у матери.
С Авдо мы договорились в этом году охотиться вместе, но я немного опоздал: почти неделю просидел в аэропорту из-за непогоды.
— Ждет она тебя, — сообщила мать. — Продукты завезла к Юктокону. А вчера пошла по речке Ике побелочить и разведать, есть ли там соболи. Через день-два появится.
Вбежал Федя, сын Нади, сухонький, глазастый, в мохнатой шапке, которая сползала на глаза, в телогрейке и коротких унтах.
— Где ты бегаешь? — спросила Надя.
— Ходил петли ставить на зайцев, — ответил Федя и покосился на меня.
— Может, с дядей поздороваешься? — улыбнулась Надя.
— Дай раздеться-то, — потупился Федя.
Глава 2
Выходим с Федей из дому. Солнце. Снег. Лес рядом. Где-то лают собаки. Доносится клёкот ворона. В ограде следы, горностая, они идут от леса к амбару. Над домами вихрятся дымки. Все вокруг залито голубоватым светом. Вот он таежный мир. Здесь все особенное, свое: и тишина, и жизнь, неторопливая, размеренная, и люди, степенные, знающие себе цену. И мне не верится, что я снова на этой голубой земле, не тронутой вихрем цивилизации.
— Где Назариха? — спрашиваю я.
— Вон там, в будке, — Федя показал в угол ограды.
— Хорошая собака?
— Первый сорт. Соболя ух как гонит.
— За что же ее так окрестили — Назариха? Кличка-то вроде не собачья.
— Это все бабушка Авдо придумала. Тут у нас дядя Назар жил, так его жену все Назарихой звали.
— При чем же тут собака?
— Она тогда еще не Назарихой, а Музгаркой была, и совсем маленькой, с рукавицу, не больше. Принес я её в избу кормить. Положил на пол. Музгарка скулит. У нас бабушка Авдо сидела. Посмотрела на Музгарку и говорит: «О леший, воет, как пьяная Назариха». С тех пор Музгарку все Назарихой звать стали.
Подходим к будке. Назариха вначале посмотрела на меня, потом остановила взгляд на Феде, будто спрашивая у него: «Кто этот человек?» Назариха небольшая, черная, с короткими, но сильными лапами. Живот у нее с подпалиной, глаза карие, плутоватые, над ними жёлтые дуги бровей.
Поплевав на кусок хлеба, я подал его Назарихе. Так, по поверью, собака быстрее подружится с охотником. Назариха хлеб взяла охотно. Я потрепал ее по загривку, Назариха в отвел лизнула мне руку.
К нам подошла мама.
— Собака-то добрая, — заговорила она. — Любого зверя берёт. Да вот беда: как осень подходит, так щенится. А со щенками какой из нее прок. Валентин, Надин-то муж, хотел уж её убить, да я не дала. Жалко.
— Нынче не щенилась?
— Какой не щенилась. Раздали щенков, так она рассердилась на нас, не смотрит ни на кого. Собака, а сердце-то материнское. Жалко детёнышей. А один раз так было. Ощенилась, принесла всего лишь одного щенка. А Валентину в лес идти надо, на охоту. Для мужика, сам знаешь, потерять осень не шутка, год её ждет. Притащили в избу щенка, гадаем, что с ним делать. Уж не знаю, что подумала Назариха, только прибежала она под окно, села на завалинку и завыла, а из глаз слезы крупные катятся. Первый раз в жизни я видела, чтоб собака плакала. Отнес ей Валентин щенка, взял у соседа собаку и ушел в тайгу. Что ты с ней будешь делать…
— А пойдет она со мной?
— Пойдет. Так-то она смирная, ласковая.
— И хитрющая, — добавил Федя.
Мама улыбнулась.
— Уж это верно. Во всей деревне знает, у кого что в амбаре лежит. Если пропал кусок мяса, знай — работа Назарихи. И до чего же ушлая, ни разу не попалась.
— Она же разорит на стоянке, — забеспокоился я.
— Дома Назариха ничего не трогает.
Весь вечер я подгонял одежду, снаряжение. Мне помогал Федя.
На рассвете выхожу из дома. Еще сумеречно. Чуть валит снежок. Стоит приглушенная тишина. В ней слышно, как ударяются друг о друга снежинки, их еле уловимым, легким шорохом заполнено все. В полумраке дремлет Икандой.
До калитки меня провожает мама.
— С богом, сынок.
С богом хорошо, но с надежным товарищем лучше. На этот раз со мной идет Назариха. Я её веду на поводке.
Лес. Он начинается сразу же за деревней. Тишина здесь еще гуще. Все вокруг пропитано смоляным запахом ельника. Я по косогору поднимаюсь в хребет. Еловый лес сменяется лиственным. Из-за гор показалось солнце. Вот и первый след, его оставил на снегу глухарь. Я спускаю с поводка Назариху.
— Что-нибудь добудем сегодня?
Назариха посмотрела на меня и протянула:
— У-у-ууу. Мол, все будет зависеть от тебя.
Назариха повалялась в снегу и побежала вперёд. Вскоре из распадка донесся ее лай, громкий, азартный. Радость охватила меня. Я бегу к Назарихе. На приземистой лиственнице сидит белка. Она пепельно-белая, а хвост рыжий. Белка с любопытством рассматривает нас.
Выстрел — и в руках моих первый трофей. Назариха подняла морду, смотрит на меня и повиливает хвостом. Я не пойму, чего она от меня хочет. Наконец догадался. Протягиваю белку. Назариха лижет ранку.
— Начало есть. Идём дальше.
Назариха срывается с места и махом убегает к сосновому колку. А немного погодя снова слышится ее лай.
В полдень я сделал привал. Под лиственницей разложил костер, повесил котелок и присел на колодину. Рядом, прямо на снегу, калачиком свернулась Назариха. Недалеко от костра — береза с единственным жухлым листком, который остался как память о былом наряде. За распадком, над хребтом, висела туча, зацепившись серым длинным хвостом за его вершину.
Я добавил в котелок снега. Над березкой пролетела стайка снегирей и рассыпалась по веткам лиственницы. Набежал ветерок, качнул деревья, вслед ему сыпанула крупная пороша. Белый хвост оторвался от тучи и будто растаял над лесом.
Выглянуло солнце, точно проверяя, все ли на земле ладно. На березке золотой серьгой качнулся одинокий лист, будто кровью набухли грудки снегирей. Засияли темной зеленью ели в распадке. Улыбнулось солнце и снова спряталось за тучу. Вокруг все посерело.
Вот и чай готов. Я отпил глоток и крякнул от удовольствия. Чай жгуче пах дымком и снегом. Поделил с Назарихой пополам хлеб и кусок мяса. Назариха проглотила свою порцию и уставилась на меня умными глазами: мало.
— Потерпи, родная, до вечера.
Домой я вернулся в сумерках, усталый и довольный.
— Соболя добыл? — встретил меня Федя.
— Берегу его до другого раза. Пять белок и рябчик.
— Маловато.
— Ух ты прыткий какой!
Глава 3
Я ободрал белок и отдыхал в горнице на диване. Перед глазами всё ещё стояла тайга, простая и в то же время разнообразная до изумления. Завтра я постараюсь сходить подальше. Надо обязательно побывать в Журавлиной пади. Там когда-то мы с Авдо охотились. Интересно, сохранилось ли зимовейка, в котором мы жили.
Я глянул на дверь и от неожиданности вздрогнул: в ней стояла высокая костистая женщина в старой вышарканной парке и смотрела на меня.
(Парка — куртка из оленьих шкур без подклада.)
— Авдо? — невольно вырвалось у меня. Я встал.
Авдо довольно улыбается.
— Однако, узнал старуху. Здравствуй, бойё. С приездом тебя.
(Бойё — друг, товарищ. Обращение к мужчине (эвенк.).)
Авдо подала мне руку. Рука у нее сильная, крепкая.
— Спасибо. Раздевайся.
Авдо на минуту вышла из горницы и вернулась в меховой безрукавке. На ней был широкий расклешенный книзу сарафан, на ногах амчуры.
(Амчуры — унты с коротким голенищем. Носят амчуры только во время охоты. — Прим. авт.)
Голову прикрывал платок, из-под которого выбивалась прядь седых волос. Авдо села у окна на стул, из кармана безрукавки достала трубку с длинным тонким мундштуком и, раскуривая её, посматривала на меня. Я тоже наблюдал за ней. У Авдо скуластое без морщин лицо, толстые губы, глаза черные. Ни старая, ни молодая. Такой я ее помню с юношеских лет.
— Совсем крупный мужик стал, — удовлетворенно проговорила Авдо, и лицо ее посветлело.
— А ты ничуть не изменилась. Сколько же тебе лет, Авдо?
Авдо помедлила с ответом.
— Родилась я шибко давно, — заговорила она. — Когда на Междуречье падала звезда, (Тунгусский метеорит.) я уже большая была. Помню, земля, как вода, качалась. У деревьев вершины ломались. А гром был, борони бог, — звери глохли. А лет мне, однако, совсем мало. Когда в тайгу иду — сорок, пожалуй, будет. Из старика какой охотник.
Я был немало поражен логикой мышления Авдо. Не беда, что ты давно родился, раз сила есть, охотиться можешь, значит, еще молод.
— Я тебя сегодня еще не ждал.
— Одной в лесу никак нельзя. Вчера старый след видела. Однако, амака ходил. Добрый или худой, понять не могла. Если добрый, в берлогу спать заляжет, худой — бродить будет, в палатку придет, что одна сделаю? Задавит.
(Амака, амикан — медведь (эвенк.).)
— А ружье у тебя на что?
— Ружье-то есть. Но и доброе ружье не всегда стреляет.
— Постой, Авдо. Когда-то ты мне рассказывала, что медведи не трогают женщин. Если встретят женщину, в берлогу уводят, хозяйкой делают.
Авдо хитровато глянула на меня. Исчезла угрюмость с её лица.
— Я думала, забыл, бойё. Однако, тогда маленький был, все перепутал. Я же охотник. Не дружит амака со мной.
— Откуда же он знает, что ты охотница? На лбу же не написано.
— Совсем понятия не имеешь. Худо учила тебя. Амака же человек, только говорить не умеет.
— Что-то темнишь, Авдо.
— Пошто не веришь?
— Да что-то концы с концами не сходятся. Зачем же человеку в такую шкуру наряжаться?
— Однако, совсем просто. Давно это было. Тогда боги еще на земле жили. По всей тайге их чумы стояли. Когда боги на небо поднялись, чумы в горы превратились. А до этого земля ровная была. Вот тогда-то жил шаман Ама. Он лечил людей, прогонял злых духов. Охотники приносили шаману шкуры, мясо, рыбу. Много-много раз прилетали птицы вить гнезда и улетали.
Приходили зимы и уходили. Состарился шаман, оброс волосами. Страшный стал. Злой. Ушли от него жены. Долго плакал Ама, звал жён, но они других мужей нашли. Рассердился тогда шаман на людей и решил отомстить им. Ночью, когда из-за леса покажется луна и уснут все люди, выйдет он из чума, перевернется через голову, превратится в медведя, да такой сильный становится, одним ударом может спину сохатому сломать.
Идет Ама по стойбищу, собаки на него не лают: человеком пахнет. Проберется он в чум, украдет девушку, унесет ее в лес, досмерти замучает.
Долго так продолжалось, много девушек погубил злой шаман. Охотники подкараулили его, убить хотели. Пустили стрелы, а они вспыхнули и сгорели как спички. Шаман колдовское слово от стрел знал. Испугались охотники: погубит всех девушек Ама, кто род человеческий продолжать будет. Без людей опустеет земля. Пошли тогда охотники к самому главному богу Тангаре. Рассказали ему про свое горе. Тангара созвал всех богов, стал совещаться, как проучить злодея.
И вот, когда шаман превратился в зверя, боги отняли у него память и лишили языка. Пошел Ама в лес и забыл зачем. Так вот он и бродит до сих пор. Приходит зима, холодно, в чум бы вернуться, да дорогу забыл. Тогда он делает берлогу, залезает в нее на всю зиму. Потому весной встает злой, на всех зверей кидается. А повстречает охотника, вспомнит, что он тоже человек, на задние лапы встает. Бросается на охотника. И зовут эвенки его амака, или амикан, это значит на языке нашего народа «старик», «дедушка».
Авдо закончила рассказ и поглядела на меня.
— Совсем город испортил тебя. Авдо в гости пришла. Сказки потом говорить буду. На охоту собираться надо. Соболя много, белка есть. Хорошо промышлять будем.
— Я могу хоть сейчас выходить.
— Зачем сейчас? Утро будет, тогда пойдем.
Вошла мать и пригласила нас к столу.
Глава 4
Полный стол закуски: красная тайменья икра, пирог из налима, сохатиный язык, зажаренные в русской печи рябчики, брусника в сметане, солёные грузди.
— Да тут всякой снеди на целую свадьбу, — говорю я.
— Поешь, сынок. Всё из тайги. А ты, чай, для неё не чужой.
— Однако, Евдокия Ивановна, неправду говоришь. Совсем Николай для тайги чужой стал, — вмешивается в разговор Авдо. — Ружье-то не забыл как держать?
— Давно в руки не брал, — признался я.
— Как так жить можно? — удивилась Авдо. — Мужик без ружья, как орел без крыльев. Совсем люди портятся.
— Тайга, тайга, — вмешалась в разговор Надя. — Жизнь там на меду что ли? Кому охота дрожать месяцами у костра? Поди, кусок хлеба можно заработать и не в лесу. И всё лишний год прожить.
— Что ты говоришь, — прервала Надю мама. — Я вот старуха, а упадёт первый снег, и такая тоска берет. Так бы и ушла на зимовье. Мы с отцом твоим, царство ему небесное, сколько осеней вместе белочили.
Надя налила в рюмки вина, подняла свою.
— С приездом тебя, братец. И удач на охоте.
Авдо только пригубила рюмку, поставила на стол.
— Да ты что, Евдокия Степановна, не выкушаешь? — проговорила мама.
Авдо при рождении дали имя Евдокия, но звали все Авдотьей. Имя длинное, для эвенков в произношении трудное. Тогда взяли да и отрубили половину. Вот и получилось Авдо.
— Однако, немного поем, — ответила Авдо. — Весь день голодная ходила. В полдень собралась чай варить, гул самолета услыхала, в деревню скорей пошла.
— Ах ты грех-то какой, — проговорила мама. — Пирога поешь. Налим свежий да жирный.
В деревне собаки подняли лай. Все насторожились.
— Что, ладно ли? — всполошилась мать. — Не шатуна ли нелегкая принесла?
— А Федя-то где? — встревожилась Надя.
— У дружков своих.
— Я сбегаю.
Надя вышла. Лай собак усилился, а затем стал удаляться за деревню.
Вернулась Надя.
— На сохатого лают, — сообщила она. — Из-за реки прибежал. Угнали его собаки за озера.
Я вспомнил, как мы однажды с Авдо встретили сохатого, которого она вырастила и отпустила на волю. Вот как это было.
…Мы с Авдо шли вдоль небольшой таежной речушки. Через несколько километров речка кончилась, начались ерники и островки березняка. На каждом шагу встречались следы сохатых, но Авдо не обращала на них внимания. Вдруг остановилась.
— Вчера ходил, — сказала она, показав мне на след. Глаза ее заблестели.
Собаки заволновались, натянули поводки. Авдо отпустила их. Сделав круг возле нас, собаки прыжками бросились вперед.
Мы прошли еще немного и остановились передохнуть на краю небольшой поляны. Солнце уже коснулось верхушек леса, листья молодого березняка просвечивали, и от этого казалось, что все вокруг залито зеленоватой дымкой. Совсем рядом залаяли собаки. Авдо отодвинулась от березки и четким движением послала в ствол ружья патрон. Я тоже приготовил ружье.
Лай приближался. Вскоре послышалось грозное урчание. Спустя минуту на поляну выбежал сохатый. Над головой его возвышались красивые рога, покрытые темным бархатом. От нас зверь остановился в полусотне шагов, не более.
Собаки лаяли напористо, но бык не обращал на них никакого внимания. Гордо подняв голову, он смотрел на нас, а мы на него.
Я вскинул ружье, но Авдо положила на ствол руку и сказала:
— Не надо стрелять, бойё.
Я удивленно глянул на Авдо. Она смотрела на быка и улыбалась. Потом сделала шаг вперед и крикнула:
— Ветерок!
Сохатый вздрогнул, отскочил в сторону и уставился на Авдо. Только теперь я заметил, что у сохатого нет половины уха, а второе было как будто распорото и торчало вилкой.
— Ветерок! Ну вспомни!
Зверь переступил с ноги на ногу, низко к земле опустил голову, кинулся на одну из собак. Опять остановился и шагнул к нам.
— Однако, узнал! — вскрикнула Авдо.
Бык, глубоко проваливаясь в мох, побежал от нас. Но на опушке леса остановился, повернул голову в нашу сторону и замер.
— Узнал. Только одичал маленько. Беги своей дорогой, Ветерок! — Авдо подняла бердану и выстрелила вверх. Сохатый привстал, выбросил вперед ноги и исчез в лесу.
…Как-то Авдо весной рыбачила. Вдруг на берегу, в ельнике, залаяли собаки. Авдо сразу поняла, что на зверя. Причалила к берегу и осторожно пошла на лай. Зверь все же учуял и убежал. Когда затих топот копыт, Авдо услышала ворчание собаки, бросилась на голос и тут же увидела сохатенка. У сохатенка одно ухо было разорвано вдоль, а второе держалось только на коже. Собака старалась поймать его за горло, но сохатенок увертывался. Авдо цыкнула на собаку, та неохотно отошла. Сохатенок подбежал к Авдо, жалобно прокричал: «Ння-я, ння-я», будто жалуясь на собаку.
Сохатенок был совсем маленьким, должно быть, родился только вчера, и Авдо не решилась оставить его в лесу: пропадет без матери. А сохатенок, получив защиту, не отходил ни на шаг. Авдо положила его в лодку и приплавила домой.
Сохатенок стал любимцем детей стойбища. Они его поили молоком, водили пастись. За резвость и быстроту назвали его Ветерком.
Особая привязанность у сохатенка была к Авдо. Стоило ей только появиться на стойбище, Ветерок, хрюкая, бежал к ней, протягивал голову, тыкался мордой в грудь, осторожно хватал губами руки — ласкался.
Через два года Ветерок превратился в стройного и грозного зверя. Длинные ноги в серых чулках. Грудь широкая, черная. Рога лопатами. За Авдо он следовал всюду.
Как-то весной, возвращаясь с охоты, Авдо остановилась на берегу реки перекусить. Разложила костер, пошла за водой, Ветерок, как всегда, следовал за ней. Авдо встала на льдину и хотела зачерпнуть воды, но льдина скользнула по земле, и Авдо упала в воду. Течение подхватило её и понесло. Авдо накричала. Ветерок сначала грозно затрубил, а потом спустился в воду и поплыл к ней. Авдо ухватилась за загривок, и Ветерок доставил ее на берег. Так Ветерок спас старой охотнице жизнь. И Авдо, конечно, еще больше привязалась к зверю.
Первую осень, когда пришло время рева, Ветерок вел себя спокойно, на вторую — целый месяц трубил по утрам. Наступила третья осень. Ветерок ободрал о молодые деревца шкуру с рогов, просмолил рога. Лето он ходил толстый с плоской шеей, а тут вдруг подобрал живот, шея округлилась, грудь раздалась, потемнела, глаза налились кровью.
И вот как-то сентябрьским утром жителей стойбища поднял мощный рёв Ветерка. Авдо выбежала на улицу. Ветерок стоял на пригорке, подняв голову к горам, трубил. Голос его был басовитый. Ветерок вызывал на бой противника. Каждый мускул его напрягся, налился силой.
— Ветерок! — крикнула Авдо.
Но Ветерок не слышал её. Он переступил с ноги на ногу, и могучий голос его снова покатился по тайге. В Ветерке проснулась буйная кровь самца. Природа звала его в горы. И он ушел.
И вот через три года мы случайно встретились с Ветерком.
— …Авдо, ты после этого больше не видела Ветерка? — спросил я.
— Совсем ушел. Позабыл старуху. Ты тоже такой. Вырос — в город ушел. Тайгу бросил. Худой парень.
— Я же вернулся, Авдо. Правда, не насовсем. Да что поделаешь? Я пошел другой дорогой.
— Совсем приходи. Мало охотников стало. Будешь в тайге, Авдо спокойно умрет. А то думы покоя не дают. Горы сердиться будут. Худая Авдо: никого за себя в тайге не оставила.
Глава 5
Небо серое и низкое. Дыбятся горы. Припудривая следы, лениво сыплет мелкий снежок. Вокруг ни души, только иногда донесется одинокий стук дятла или каркающий крик кедровки.
За день пути я сильно устал. С непривычки от поняги болят плечи, ломит поясницу. Ружье кажется пудовым. А тропинка всё бежит и бежит. Особенно трудно идти по горным «тундрам». Первую «тундру» я принял за озеро. Идем редколесьем. Небольшая ложбинка. И вдруг ни кустика, белая слегка бугристая плешина. Озеро? Но это оказалась «тундра» — болото, маленький островок вечной мерзлоты, на котором растут только мхи.
Проваливаясь между кочек, перебираемся через «тундру». Выходим на тропинку. Авдо шагает неторопливо, но так ходко, что я кое-как поспеваю за ней. Отдохнуть бы. Но об этом как-то неудобно просить Авдо.
Тропинка приводит в сосновый бор. Здесь идти легче: снег неглубок и почва тверже. Стали попадаться узоры глухариных следов. Собаки резво забегали в поисках птиц. Авдо остановилась, потрогала посохом один из следов, потом посмотрела на меня.
— Далеко еще до палатки, Авдо? — спросил я.
— Меньше полперекура.
Ответ не столько озадачил, сколько рассмешил меня. Ведь не курить можно и полсотни километров. Не успел я раскрыть рта, чтобы уточнить расстояние до палатки, как Авдо уже шла слегка покачивающейся походкой.
Бор кончился как-то вдруг, упершись в ручей, густо заросший ельником и лиственницами. На небольшом взгорке, в треугольнике трех сосен, стояла палатка. Рядом с ней был лабаз, на котором лежали мешки с провизией.
Из сосновой рощи послышалось хлопанье крыльев, а затем я увидел глухаря. Он летел к нам большим черным снарядом. Сел на одну из сосен у палатки. Я вскинул тозовку,[7] Авдо метнулась ко мне и быстро заговорила:
— Не стреляй, бойё. Он здесь живет… Это его бор…
Я не сразу понял, чего от меня требует Авдо. Но когда я опустил ружье, Авдо облегченно вздохнула, показывая на глухаря, сказала:
— Не надо трогать глухаря. Это добрый дух бора. Он палатку стережет. Охотиться помогает.
Глухарь сидел на толстой узловатой ветке, с которой кисточкой свисала хвоя. У него мощный белый клюв с синеватым отливом, седая шея, черная грудь с зеленью, красные брови, белая каемочка на темном хвосте. Поворачивая голову из стороны в сторону, глухарь бесцеремонно рассматривал нас. Собаки лаяли что было сил. Авдо прикрикнула на них. Глухарь вытянул толстую шею.
— Гостинцев просит, — пояснила Авдо. — Нету, Старик. Завтра принесу, — обратилась она к глухарю.
Глухарь действительно походил на старика, бодрого, крепкого и важного от чувства собственного достоинства. Посидев немного, он снялся и улетел в бор.
Мы с Авдо напилили дров и затопили печку, которая делила палатку, довольно просторную, на две половины — мужскую и женскую.
Приятно после утомительной дороги лечь на еловые ветки, покрытые оленьими шкурами, и слушать, как гудит лес, как потрескивают дрова в печке и поет Авдо, освещенная слабым светом коптилки. В этом было что-то сказочное, романтичное и в то же время тревожное: ведь на сотни километров вокруг разлилось безбрежное море тайги, и, случись что-нибудь с тобой, рассчитывать можешь только на свои силы.
Спал я в эту ночь крепко, без снов. А когда проснулся, Авдо уже чистила ружье. На печке в сковородке жарилось мясо, точно волшебным молоточком постукивал чайник.
— Уши не отморозил? — хитро прищурившись, спросила Авдо.
— Кажется, нет.
Я сел. У двери на куче поленьев лежал глухарь. Это меня поразило: вчера Авдо чуть под пулю не бросилась, чтобы спасти глухаря, а тут на тебе — сама убила.
— Зачем же ты его убила?
— Суп варить вечером будем, — невозмутимо ответила Авдо.
— А кто теперь палатку охранять будет?
— Это другой глухарь. Он в другом бору жил. Наш Старик туда не летает.
Вот в чём дело. Я-то ненароком подумал, что у Авдо все глухари священные. У нее был, оказывается, только один — Старик.
Через час мы ушли в тайгу каждый своей дорогой. Мне вновь предстояло стать охотником. И я волновался: смогу ли. А от этого зависело отношение Авдо ко мне, которым я очень дорожил. Виделись теперь мы с ней только вечерами. А того, кто первым приходил к палатке, каждый раз встречал глухарь.
Старик был почти домашним. Приручила его Авдо случайно. Несколько лет назад ей пришлось охотиться здесь одной. Как-то она набрала котелок клюквы и поставила на лабаз. Дня через два-три посмотрела, а ягод в котелке осталось на донышке. Это ее вначале озадачило, но по еле заметным следам — осень долго стояла бесснежная — Авдо определила, что это проделки какой-то птицы.
Тогда она набрала голубицы, и голубица была съедена. Столовался здесь не кто иной, как молодой петушок-глухарь. Проделывал он это, по всей вероятности, из озорства, так как ягод везде было очень много. А вот когда выпал снег и трудно стало добывать корм, глухаря погнала сюда нужда.
Так между Авдо и Стариком установилась дружба. Когда Авдо возвращалась с охоты, каждый раз глухарь встречал ее у ручья в ельнике. Он садился на дереве у лыжни и, вытянув шею, пощелкивал клювом — просил ягод. Я, как и Авдо, тоже стал приносить глухарю то рябины, то голубицы, которую в борах еще не завалил снег. Старик меня встречал, сидя на сосне. Я высыпал ягоды на колодину, лежащую неподалеку. Глухарь, осмотревшись, — он сильно боялся Назариху — слетал с дерева и подходил к колодине. Когда гостинцев не хватало, он распускал веером хвост, топорщил перья на шее и клянчил добавки.
Моя дружба с птицей вызывала у Назарихи глухую ревность и протест. Злясь на глухаря, Назариха решила наказать его. В тонкостях зная повадки обитателей бора, она однажды устроила Старику западню. Убежав от меня как-то пораньше, Назариха притаилась за колодиной. Я, как обычно, присел и насыпал ягод. Старик слетел с дерева и принялся клевать. Вдруг улавливаю еле слышный шорох. Оглядываюсь: Назариха. Чуть присев, она делает огромный прыжок. Я крикнул что было сил: «Старик!» — и выбросил к нему руку.
К счастью, моя рука попала Назарихе в пасть, и мы свалились с колодины. Старик успел улететь.
Я стряхнул с себя снег, осмотрел руку: на ней было несколько царапин от зубов Назарихи, которая стояла с виновато опущенной головой.
— Назариха, как тебе не стыдно? Не заметь я тебя вовремя, ты бы натворила бед. Нас бы за такое Авдо близко к палатке не пустила.
— У-у-уу, — ответила Назариха и посмотрела на меня с укором. Это она выговаривала мне за дружбу со Стариком.
— Ты пойми, глупая, — уговаривал я. — Не Старик к нам пришел, а мы к нему. Так что уважать его надо.
— У-у-уу, — протянула Назариха, явно не соглашаясь со мной.
Сколько я ни убеждал Назариху, убедить не мог. Что поделаешь? У неё своя, собачья, логика. С этого дня Назариха затаила злобу на всех глухарей и беспощадно им мстила.
Чтобы не расстраивать Авдо, я умолчал о происшествии, но за Старика боялся, знал, что Назариха не оставит его в покое.
Глава 6
Я страшно устаю. Вчера даже не было сил поужинать. Прилёг на спальный мешок немного отдохнуть и сразу уснул. Проснулся часа в четыре утра, поел и стал обдирать белок. Меня поражала Авдо. Ей уже за семьдесят, но она с охоты приходила, будто с прогулки. Снимала понягу и сразу же принималась за домашние дела: варила, жарила и только после ужина начинала обдирать белок и соболей, чистила ружьё. Я чувствовал себя несколько неловко перед ней. Но Авдо делала вид, что ничего не произошло. Ее беспокоило другое: мои первые охотничьи неудачи.
— Пошто соболя не несёшь? — спросила она меня как-то вечером.
У меня у самого было великое желание добыть соболя. На Тунгуске он в свое время был уничтожен почти полностью, только кое-где в горах охотники иногда видели след. В тридцатых годах соболя завезли к нам, но охотиться на него было запрещено. Да дело и не в запрете: в лесу свидетелей нет, охотники сами берегли этого зверька. Теперь соболя расплодилось столько, что кое-кто за осень промышляет по семьдесят — восемьдесят штук. Но мне пока не везёт. Старых следов много, а вот свежий перехватить не удаётся. Желание добыть соболя ещё подогревается и тем, что мне выданы лицензии-разрешения на отстрел шестнадцати зверьков. Как же в деревню вернуться ни с чем? Дело не только в самолюбии. Ведь я подведу госхоз.
А Авдо уже пять соболей принесла. И от этого передо мной испытывает некоторую неловкость. Боится, как бы я не подумал, что она для себя выбрала лучшие охотничьи угодья.
— Еще не пришла моя очередь промышлять соболей, Авдо, — отвечаю я.
— Однако, Назариха разучилась искать соболей.
— Нет, Назариха — молодец. Вчера белку искала хорошо.
— Белку и первоосенок найдет. А соболя не каждая собака гонит.
(Первоосенок — молодая собака, которая первую осень в тайге. О собаке говорят не сколько ей лет, а сколько осеней. — Прим. авт.)
Я уже привык к Назарихе, знаю ее повадки, и вдруг Авдо начинает подозревать, что Назариха — плохая собака.
— Ничего, Авдо. Мы с Назарихой еще наверстаем.
— Сегодня иди на хребет Биракан, — советует Авдо. — Я вчера возле мари ходила. Туда два соболя ушли. Утром орехи пойдут искать.
— Спасибо, Авдо.
Авдо начинает готовить завтрак. Поставила на печку сковородку с мясом, принесла с лабаза шаньги.
— Авдо, а соболь боится, когда лай собак услышит?
— Пошто ему бояться? Собак далеко слышно, куда побежишь? Соболь где-нибудь ходит, своим делом занимается. Когда шум охотника услышит или собака совсем рядом залает, тогда шибко побежит, в дупло или камни спрячется.
На охоту ухожу первым. Утро чудное. Всходит солнце, горы и долины залиты светом. От деревьев на снег ложатся тени. Небо наливается холодной синью. Лес не шелохнется. Звонкая тишина. В ней слышно, как потрескивают ветки, одетые в узорчатый куржак. И я чувствую в себе бодрость и силу.
Пересекаю бор. За широкой долиной возвышается хребет Биракан. На десятки километров протянулся он с востока на запад. Где-то в косматой гриве хребта родилась речка Ика, которая впадает в Непу недалеко от села. Правее Биракана, высоко над тайгой, поднялся хребет Юктокон. На нем я еще не бывал. Авдо тоже туда не ходит. Почему? Это пока загадка.
Впереди меня неторопливой трусцой бежит Назариха. Иногда остановится, поглядит на меня и опять трусит. Вот она замерла и со всех ног бросилась в лиственный колок. Оттуда с шумом поднялась стая глухарей и пронеслась надо мной.
Я вошел в колок. Под лиственницами-великанами — валежины. А между ними из снега курнями (маленькими островками) торчит голубичник. Безлистые ветки густо усыпаны крупной ягодой. Я остановился. А вокруг голубые островки ягод, от них голубой снег, голубой воздух. Срываю горсть ягод и высыпаю в рот. Божественный вкус: утренняя свежесть, сладость соков, настоянных на лесных цветах, и осенняя духовитость опавшей хвои. Весь этот аромат хранит в себе только осенняя, заснеженная ягода. Этим букетом запахов я был вознагражден за все свои неудачи.
Всюду снег расписан узорами глухариных следов. Птицы здесь завтракали. На небольшой разлапистой лиственнице две белки шелушат шишки. На снег, точно лепестки, сыплются коричневые чешуйки. Но Назариха на белок не обращает внимания, мечется из стороны в сторону по леску. Я подумал, что она ищет птиц.
— Глупая, улетели твои глухари. Да и не нужны они нам.
Назариха даже и не глянула в мою сторону. Перемахнула через колодину и умчалась в сторону Биракана.
— Чудишь. Или белка тебе не пушнина? Разомнешься да придешь.
Я добываю белок, привязываю к поняге и выхожу на след Назарихи. «Куда же тебя унесло?» — ворчу про себя. Я с юношеских лет приобрел привычку разговаривать с собакой, горами, птицами, как с разумными существами. Это помогает легче переносить одиночество. Подхожу к колодине, через которую перепрыгнула Назариха, и останавливаюсь изумленный и радостный: след соболя. На снегу отпечатались даже коготки. Я иду, а вернее бегу, по следу Назарихи. Соболь перебежал низину и свернул вдоль покоти.
У меня от пота прилипла к спине рубаха, но я прибавляю шаг. На ходу прислушиваюсь: вот-вот Назариха должна залаять. И верно: со склона хребта донесся лай. На секунду приостанавливаюсь: Назариха лает зло. Срываюсь с места. Соболь! Слово-то какое звучное, как выстрел.
Лай все ближе и ближе. И вот впереди сухостоина, у неё всего три корявых сука, на одном из них, под самой вершиной, — черный ком. От радости стало тяжело дышать. Назариха лает с азартом, прыгает на дерево, грызет кору. Соболь с ветки посматривает на нее, крутит головой. Движения у зверька быстрые, порывистые. Подхожу на выстрел. Соболь подвинулся на ветке и заворчал. Вот ты какой! Лапки толстые, ушки небольшие, полукругом, делают лоб широким. Медвежонок в миниатюре, да и только!
Назариха насторожилась. Следит за каждым движением соболя. Она его повадки знает хорошо: чуть прозевай, спрыгнет с дерева и убежит. Ловлю на мушку голову соболя. Выстрел. Слышу, как ударилась пуля. Соболь замер и затем медленно свалился с сучка прямо мне в руки. Назариха прыгает, старается схватить соболя. Даю ей полизать ранку. Назариха успокаивается.
Я кладу соболя за пазуху. Черт подери, да мне такая охота и во сне не снилась! Вот радости-то будет у Авдо. Отвязываю от поняги мешочек, достаю ломоть хлеба с маслом, кусок сахару и отдаю Назарихе.
Из-за хребта доносится приглушенный выстрел. Там охотятся Валентин, муж Нади, Андрей Степанович Жданов и Михаил Васильевич Сафьянников. Я иногда с седловины хребта слышу даже лай их собак. Доносится еще один выстрел. Назариха подняла голову, навострила уши.
— Кто-то из карабина палит. По зверю, должно быть.
В палатку я возращался как на крыльях: шутка ли, соболя спромышлял. Назавтра мне повезло ещё больше. Я принес двух соболей.
— Давно бы мне надо было поругать Назариху, — говорит Авдо. — А то совсем заленилась.
— Повинен-то, видимо, я: повадки соболя еще худо знаю.
— Завтра иди к Старой гари. Там тоже много соболей бывает. Из кедрачей приходят. Я в прошлом году оттуда принесла штук десять.
— А ты куда пойдешь?
— Тайга большая. Места много. Найду, где соболь живет.
Глава 7
Сумерки. Нашу стоянку обступил дикий лес. Вековые сосны угрюмо наблюдают за нами.
Авдо хлопочет у костра: сняла с таганка ведро с едой для собак и повесила на сук остывать. Из палатки принесла двух глухарок и стала опаливать. Запахло горелым жиром. Собаки, которые спали под деревьями, поднялись и обступили Авдо.
— Маленько обождать надо, — говорит им Авдо. — Еда скоро остынет. Сытно поедите: по пять беличьих тушек каждой сварила. Завтра хорошо соболя искать надо.
Я наносил дров в палатку и чищу ружье, снимаю смазку с патронов. Пришла Авдо и на березовой доске стала разделывать птиц. Куски мяса кладет в объемистую кастрюлю.
— Шибко жирные птицы, — говорит она. — Где промышлял?
— У хребта, на ягодниках. Присел отдохнуть, а их целый табун прилетел.
— Птицы много, соболю хорошо. Мясо всегда есть, сытно живется.
— А мышей ему мало?
— Мышей шибко любит соболь. Но когда птица есть, совсем хорошо. Мышь задавил, съел, завтра опять искать надо. Глухаря поймал, на много дней мяса хватит. Да еще другой соболь в гости придет.
— Как он его позовет?
— Совсем просто. Соболь наелся глухаря, спать в дупло пошел. Другой соболь наткнулся на его след, понюхал, след мясом пахнет. По следу к добыче пришел.
— Авдо, откуда ты все знаешь? Или с соболями разговариваешь?
Авдо, прищурившись, смотрит на меня изучающе, старается понять, шучу я или говорю серьезно.
— О леший, бойё. Пошто мне с соболями говорить? По лесу хожу. Не слепая, всё вижу. На следы смотрю. Маленько думаю. Всю жизнь в тайге знаю.
Один раз охотилась. Залаяли собаки. Прихожу: три дерева стоят, три соболя на них. Спромышляла. А сама думаю: однако, не к добру. Зачем соболям в кучу собираться? Может, злой дух над старухой шутит? Пошла следы смотреть. Долго ходила. Следы к леску привели. Один соболь кабарожку задавил. Потом другие к нему пришли. Всё узнала. На душе хорошо стало.
За палаткой с шумом вскочили собаки и с громким лаем бросились к ручью. Авдо с тревогой глянула на меня.
— Бойё, не шатун ли по моему следу пришел?
Волнение Авдо передалось и мне. Я схватил карабин и поспешно вышел из палатки. Следом за мной с ружьем вышла и Авдо. Собаки были у ручья. В их лае слышалась тревога.
— Кого-то далеко учуяли, — проговорила Авдо.
Для полного счастья нам только шатуна в гости не хватало. Палатка — плохая защита от него. Налетит ночью, проснуться не успеешь, как у своих предков окажешься. Парадокс жизни. Люди в городах настроили себе дворцов для жилья, работать за себя заставили автоматику, а вот о первой своей профессии, о самой древней — охоте, забыли. Здесь с глубоких времен рождения человечества мало что изменилось.
Вместо балагана из веток или чума из бересты поставили парусиновую палатку. Она хорошо защищает от гнуса или дождя, но никак не от сорокаградусного мороза или зверя. В лучшем случае срубили кое-где душное зимовейко, которое больше похоже на берлогу, чем на жилье.
— Костер побольше развести надо, — сказала Авдо.
Я на угли набросал веток, щепок и положил несколько чурок. Щепки вспыхнули, и пламя обняло чурки. Сумерки вокруг сразу сгустились. В темную стену превратился ельник у ручья. А оттуда доносился беспокойный лай собак.
Вот они бросились с рычанием и лаем вперед, за ручей. Авдо подошла к костру, ружье у неё было наготове.
— Теперь кого-то увидели. Если шатун, сейчас здесь будет.
От этих слов мне стало не по себе. От шатунов немало погибает охотников. Во время войны парень с нами охотился. Пришел раньше нас к зимовью и стал дрова колоть. Шатун напал сзади и задавил.
— Тихо вы, пустозвоны, — донесся до нас голос. Собаки умолкли.
— Однако, кто-то в гости идет, — обрадовалась Авдо. — Чай греть надо.
Мы вернулись в палатку. Авдо засуетилась у печки. На стоянку вернулись собаки, ворчат друг на друга.
Послышались шаги. Откинулся полог палатки, и показалась голова в черной кожаной шапке.
— Тут кто-нибудь живой есть?
— Андрей! — обрадовалась Авдо. — Заходи, бойё.
Мужчина шагнул в палатку и выпрямился. Был он, пожалуй, метров двух ростом, грудь широченная. Запорошенная снегом телогрейка порвана в нескольких местах, в дырах косматится вата. Ичиги на длинных ногах перетянуты под коленками ремешками.
— Ну здорово, — проговорил Андрей. Голос у него густой.
— Здорово, бойё, — Авдо протянула ему руку.
Затем Андрей протянул руку мне.
— Андрей Степанович Жданов, — окинул меня внимательным взглядом серых глаз. — Как вам наше житьё-бытьё нравится? — снимая понягу и телогрейку, спросил он.
— Да так, ничего. Только иногда страшновато в лесу, — ответил я.
Андрей положил в угол на дрова телогрейку с понягой и сел рядом со мной.
— Страшновато, говорите? Все правильно. Иначе человек был бы не человеком, а роботом.
Андрей взял понягу, отвязал от нее кулечек и подал Авдо.
— Гостинцы тебе от парней.
— Орехи, — удивилась Авдо. — Однако, где ты их зимой взял?
— Соболя следил. Привел он меня к кедру. Ветром дерево свалило. Смотрю — к корням тропа. Заглянул под корень, а там отборных орехов с пуд. Гнездо бурундука было, когда дерево падало, разворотило гнездо.
Я присматриваюсь к Андрею. Ему лет сорок или чуть побольше. Тонкий нос, тонкие губы. На лице, как у женщины, нежная матовая кожа, которой никогда не касалась бритва. Андрей перехватил мой взгляд, усмехнулся. На щеках его от носа до подбородка по две борозды прорезалось. Андрей провел рукой по подбородку.
— Загадка природы, — проговорил он. — Моя прабабушка была эвенка. По этой причине не, растет борода.
Авдо подала Андрею кружку чаю и кусок сахару.
— Маленько пей с устатку. Потом суп готов будет.
Андрей отпил глоток.
— Как здоровье твоё, Авдо? — спросил Андрей.
— Пока ничего. Хожу.
— А промышляете как?
— Не обижаемся. А вы как?
— По десятку соболей взяли. И белка есть. Я с ребятами с речки Белой встречался. Тоже неплохо добыли. Медведя спромышляли, да матерого.
— Хорошо. С деньгами будут.
— А вы надолго к нам? — спросил меня Андрей.
— С месяц пробуду.
— От Валентина вам привет.
— Спасибо. Когда из тайги выходить думаете?
— В конце декабря.
— Тогда увидимся в деревне ещё, — я встал. — Пойду собак накормлю.
— Моим тоже что-нибудь дайте, — попросил Андрей.
— Всем хватит.
Глава 8
Когда я вернулся в палатку, в красном углу — так мы называем небольшой пятачок свободного места за печкой — был уже накрыт стол: в мисках налит суп, в чашке лежала расколотка из сига, небольшими звеньями были нарезаны свежепросоленные хариусы.
— Авдо, кажется, чего-то не хватает к ужину, — проговорил Андрей.
— Разве ложки позабыла положить? — с невинным видом спрашивает Авдо.
— Да нет, ложки вроде есть.
— Соль тоже есть.
— Вот ты расколотку подала. Это же еда богов. Чтобы её принять, надо вначале желудок святой водой обласкать, иначе проку в еде не будет.
Авдо пододвинула к себе сумку, достала бутылку спирта и подала Андрею.
— Налей немного в кружки. Остальное оставь. Еще кто-нибудь в гости придет.
— Авдо, да у меня больше рюмки и душа-то не принимает. Разве из уважения к тебе.
— Рюмка-то у тебя, бойё, однако, с ведро будет.
Настроение у всех было отличное. Мы выпили, закусили.
— В молодости на спор я по десять сигов за один раз съедал, — говорит Андрей.
— Расколоткой? — удивляюсь я. — Тут же полкилограмма в одной рыбине.
— Некоторые больше будут, — добавляет Авдо. — А брюхо не заморозил?
— Не десять, а двух-то съедал. И без спиртного. Я уж его так, годом да родом принимаю. А что, Авдо, плеснем еще помаленьку, так, с ножовый обух.
— Однако, плесни, — великодушно разрешает Авдо.
После ужина мы отдыхаем. Авдо убрала посуду и курит. Андрей лежит на оленьей шкуре. Я растапливаю печку: мы не заметили, как она прогорела и в палатке стало прохладно.
— Вы тоже живете в палатке? — спросил я Андрея.
— Нет. У нас зимовье, просторное, светлое.
— А для Авдо почему зимовье не срубите?
— Однако, на каждом собрании охотников говорю. Управляющего Михаила Фаркова ругаю, — оживилась Авдо. — Никакого толка. Так в палатке мерзну. Сколько раз болела.
Михаила я знаю. С ним мы росли, вместе служили в армии. Парень он толковый. Грамота у него небольшая, но природа наделила его цельным умом.
— Он же охотник толковый, — заметил я.
— Пошто плохой охотник будет, — проговорила Авдо. — Сама учила. И начальник хороший.
— Тогда в чем же дело?
— Людей никуда не хватает, — отметил Андрей.
— Куда же люди деваются?
— Уезжают. Отжили свой век маленькие деревни.
— Что-то не пойму вас.
— А что тут понимать? Тридцать семей у нас на селе. А вы посмотрите, кто в этих семьях — старые, пожилые да малые дети. Молодежи-то нет. Парни уходят служить в армию и не возвращаются. У меня три брата. Один токарем в Ангарске работает, второй — шофер в Иркутске, третий — летчик. Сын десятилетку закончил и остался в городе, пошел на стройку, на электросварщика учится. Как-то младший брат приезжал. Охотник он хороший. Тайгу любит. Стал я его ругать, что уехал он из деревни. А брат и говорит: «На кой шут мне эта тайга? Отработал я в городе восемь часов у станка, пришел домой, у меня никаких забот. Смотрю телевизор, или идем с женой в театр. Или книгу почитаю. Вместе с женой поступили в институт на заочное отделение. Через пять лет инженерами будем. А что здесь? Из всей культуры — раз в неделю кино, да и то старое. Сходил посмотрел кино, а дальше что? Пришел к товарищу, он бутылку на стол, загуляли. Завтра он ко мне приходит. Опять та же история. Да и не только молодежь уезжает. Подрастают дети, учить их надо. Можно в интернат посылать. Но когда дети при родителях, все-таки лучше. Семей десять уехало в райцентр, в город».
— Но что-то надо предпринимать, чтобы люди оставались. Строить школы, клубы.
— Мы об этом уже толковали. Ничего не получается. Построй школу-десятилетку, надо пятнадцать — двадцать учителей. А кого учить? В каждом классе по два-три ученика будет. Не получается со школой. Построим клуб. Приду я в него. А что там делать буду? Нанять кого-нибудь, чтобы меня развлекали? Пустой разговор.
— Но кто-то же остается в селах?
— Остаются, у кого детей нет. Или родственники в городе, к которым можно отправить детей. Но я бы давно закрыл эти деревни.
Жалко эти захолустные уголки. Ведь это же — мое детство, моя юность. Но ловлю себя на мысли: а желал бы ты, чтобы твои дети росли в этом забытом богом медвежьем углу, не зная, что такое телевизор, театр, Дворец пионеров? Конечно, нет. Да и сам-то я недаром изменил тайге.
Жизнь безжалостна. Пока страна экономически была слабой и в образовании ориентировались на семилетку, тихая и сытая жизнь в этих уголках устраивала людей. Но вот на заводы и фабрики пришла автоматизация, а в села — первоклассная техника. К станку встал рабочий со средним образованием. И первой против медвежьих углов восстала молодежь, она ушла из деревень-хуторов. И за несколько лет десятки маленьких деревушек прекратили свое существование. Остальные доживают последние дни. И если бы даже кто-то очень захотел, их уже теперь не спасти. Они отжили свой век, как отжила соха, как отжила юрта.
И чего жалеть? Конечно, все это наше детство и юность, дорогие образы и воспоминания. Но ничего не остановить и не изменить. Да, впрочем, — всё к лучшему…
Новое время, новые песни…
Глава 9
Назавтра я проводил Андрея до подножия Биракана. Утро было неспокойное: порывами налетал ветер, глухо роптала тайга, стаей низко пролетали облака. Снег посерел. Соболи залегли в дупла, птицы попрятались в глухих местах. Только вечные труженики — дятлы вяло перестукивались. Мы закурили. Андрей подал мне руку.
— Хорошего вам промысла, — пожелал он.
— Спасибо. Привет Валентину.
— Передам. А зимовье Авдо мы срубим. Нынче же летом.
Мы разошлись. И пошли дни своим чередом. Я немного пообвык и чувствовал себя в тайге уже увереннее. Вошла в форму и Назариха. Работала она неутомимо. И капризная охотничья удача теперь не обходила нас стороной.
Вот и сегодня мне здорово повезло: добыл черного соболя с желтой грудкой и белой осью. Такой красоты я еще не видывал.
— Однако, бойё, опять ты охотником стаёшь, — улыбается Авдо. — Игольчатого соболя нашёл.
И в самом деле, в шкуру будто натыканы серебряные иголки. Кажется, тряхни соболя — и серебряным звоном наполнится палатка.
— Я таких не раз добывала, — говорит Авдо.
— А я первый раз вижу.
— Добрые духи посылают удачу.
— Добрые духи… Видимо, Назариха с ними в большой дружбе.
— Пошто Назариха? Старику гостинец приносишь. Он добро шибко понимает.
— Интересно, сокола бы натренировать ловить соболей?
— Какая из сокола собака? Чудишь маленько.
— Нет, Авдо.
— Ловушки можно ставить.
— А вы почему не ставите?
— С собакой люблю охотиться. Когда соболя гонишь, шибко на душе хорошо. Ловушку ставить — радости в охоте нету.
Авдо вздевает на прутик шкурки белок, вешает их на стену у входа и закуривает. За палаткой бушует ветер, налетает порывами, бьет по брезенту, нудит в ветках. У ручья заскрипело дерево, и лес будто наполнился криком чаек. Кажется, что они мечутся над палаткой, задевают ее крыльями.
— Авдо, слышишь, чайки плачут…
Авдо прислушалась.
— Однако, ветер с моря принес их голоса. А ты знаешь, бойё, пошто плачут чайки?
Нет, этого я не знаю.
— А ты знаешь, бойё, пошто у чаек нет слёз?
И этого я не знаю.
— А ты знаешь, бойё, пошто в сибирском море Ламу шибко чистая вода?
И этого я не знаю.
В сибирском море Байкале, или, как его называют эвенки, Ламу, я не раз купался, но никогда не задумывался, почему вода в нём прозрачная как слеза.
— Совсем худой бойё, — сердито проговорила Авдо. — Шибко ленивый ум. Старики умрут, ничего знать не будете. Слепыми станете. Как жить будете?
— Авдо, а ты расскажи про чаек, — прошу я.
Авдо помолчала, а потом неторопливо, с трудом подбирая слова, начала:
— Шибко давно это было.
Сделала паузу и заговорила на родном языке. И я не узнал Авдо. Она говорила взволнованно, приподнято. После этого от Авдо я слышал ещё много легенд и сказок. И не знаю, удалось ли мне передать всю прелесть её речи в переводе на русский язык.
— Деды нашего рода жили тогда у моря Ламу, и звали их ламуканы — морские люди. И вода в море была мутная, как снежное небо. Каждую весну прилетало много птиц. Когда они поднимались, то закрывали солнце и на земле становилось темно, как в ненастный день. В горах бродили изюбры, сохатые, дикие олени и козы. Это были хорошие времена. Люди жили в дружбе. Мужчины ловили рыбу, охотились на зверя, женщины шили одежды, рожали детей. Девушки катались на лодках и пели песни, а, когда охотники возвращались с большой добычей, под покровом ночи ласкали парней.
У эвенков есть поговорка «Беда и в горах людей находит». Был большой праздник, люди веселились. И когда старейшина рода принес жертву морю, земля вздрогнула и закачалась. Обрушились горы, море почернело, вздыбились волны, ударились о скалы. Люди испугались. Позвали шамана. Шаман долго разговаривал с добрыми духами, но не мог узнать, за что разгневался великий бог Тангара и послал на землю беду, А над морем бушевал буран. Небо закрыли темные тучи. Было жутко.
Тогда старики собрались на совет. Долго сидели молча, слушали сердитый рев моря. Потом заговорил самый уважаемый старик. Но своей речи он не успел закончить: в чум вбежал парень со стрелой в груди, крикнул: «Враги!» — и упал замертво.
Мужчины схватили луки, залегли вокруг стойбища, женщины, старики и дети укрылись за стеной, сделанной из оленьих шкур.
Показался враг. Их князь поднялся на сопку, крикнул: «Хавун!» — и пустил к стойбищу стрелу войны. Тогда навстречу врагу вышел Орокто, он был иниченом — военным вождем рода. Орокто воткнул меч в землю, отошел на десять шагов и крикнул: «Если я должен убить тебя, то убью без сожаления. Если я должен быть убитым, то умру, не прося пощады».
Тогда князь пришельцев спустился с сопки, воткнул свой меч рядом с мечом Орокто, отошел на десять шагов и крикнул: «Если я недостойный воин, пусть мое тело съедят вороны». И оба иничена бросились к мечам. Орокто быстрее ветра подбежал к оружию. И когда пришелец наклонился к мечу, отрубил ему голову.
И начался бой. Бьются день, бьются другой, бьются третий. Половина парней погибла, а враг наседает. На пятый день упал замертво последний воин. Враги ворвались на стойбище и начали грабить: забрали шкуры, запасы мяса и рыбы. Потом согнали стариков, женщин, детей на берег моря и на глазах стали бросать в волны трупы воинов.
Когда поволокли труп самого отважного, который пал последним, девушка Чайя бросилась к врагам, чтобы не дать осквернить труп любимого. Но враги преградили ей дорогу. Тогда она у одного воина выдернула из колчана стрелу и пронзила себе грудь. Стоит Чайя, качается, по стреле кровь ручейком струится. Попятились враги в испуге. А девушка вдруг превратилась в белую птицу и взмыла в небо.
— Чайя! — вскрикнули подруги и тоже превратились в птиц.
Враги в испуге убежали в горы, а девушки-чайки стали с плачем кружить над морем. Долго они плакали, и море от их слёз стало светлым.
Юноши, которые погибли, давно уже ушли в нижнее царство, а чайки всё еще с плачем носятся над морем.
…Я слушал красивую легенду, а за палаткой шумела тайга, плакали чайки, жалуясь на свою судьбу.
Глава 10
Каждый день с рассветом мы покидаем свою палатку, возвращаемся перед наступлением ночи, рубим дрова, варим ужин.
— Сегодня добрые духи дали двух соболей, — сообщает Авдо и закуривает. — А ты как спромышлял?
— Мне Назариха нашла одного.
Однажды Авдо пришла позднее обычного. Молча сбросила понягу и закурила трубку. Лицо ее было печальным. Я встревожился.
— Что случилось, Авдо? Не след ли шатуна попался?
Авдо молчала.
— Куропатка на дерево села. Несчастье будет, — наконец тихо сказала она.
— Ты бы её застрелила. Ведь когда убьешь, то несчастья не бывает.
— Промазала.
Куропатка — птица тундровая, она и приспособилась к таким условиям. Питается летом ягодами, зимой — почками кустарников. На деревья не садится. Когда снег завалит кустарники, она иногда кормится почками берез или тальника.
— Авдо, ведь глухари и косачи тоже на деревья садятся, и ничего с людьми не делается. Вздумалось куропатке посидеть на дереве, ну и шут с ней, пусть сидит. Ты-то тут причем?
Авдо будто и не слыхала моих слов. На лице ее было написано: тебе ли судить об этом. Я-то всю жизнь прожила в тайге и ее характер знаю. Куропатка зря на дерево не сядет, жди беды.
— Авдо, ведь с нами Старик, — выставил я последний довод. — Он-то не позволит нас обидеть.
Но и эти слова не успокоили Авдо: она просто меня не слушала.
В этот вечер в палатке было скучно. Авдо молча обдирала белок. Тускло горела коптилка. Монотонно гудел лес. Где-то у ручья нудно скрипела сухостоина.
На другой день Авдо убила соболя и пятнадцать белок.
— Ну, что я тебе говорил!
Авдо улыбнулась.
— Совсем сумасшедшая куропатка. Места ей не было на земле. С косачами на березе сидела.
Так прошло несколько дней, и, может быть, мы и забыли про куропатку, но случай заставил вспомнить о ней: исчез Старик. Он не встретил нас ни в один вечер, ни в другой. Авдо обшарила половину бора и нигде не обнаружила глухаря, ни живого, ни мертвого. Я понимал: для Авдо такая потеря была, пожалуй, страшнее, чем встреча с шатуном. Всю ночь она не сомкнула глаз, сидела у печки и дымила трубкой.
Я, грешным делом, подумал, что это проделка Назарихи. Но за последние четыре дня она не задавила ни одного глухаря. Назариха от каждой добычи приносила мне крыло или шею, значит, исчез глухарь по другой причине.
На Авдо без сочувствия нельзя было смотреть. Лицо ее вдруг стало дряблым и старушечьим, столько на нем было горя и отчаяния, что казалось, она вот-вот заплачет.
Утром, как только начали бледнеть звезды, Авдо выколотила о печку трубку и заявила:
— Снова пойду искать Старика.
Это была уже совершенная бессмыслица. Все равно что искать на озере в камышах прошлогоднего подранка. Я попробовал отговорить Авдо, но из этого ничего не получилось. Авдо ушла. Вернулась она поздно и, к моему удивлению, Принесла останки глухаря и самого виновника — соболя, черного и толстого, как медвежонок.
— Возьми, бойё, — Авдо бросила мне соболя. — Не возьмешь, я собакам его отдам.
Пока я рассматривал соболя и останки глухаря, Авдо хранила молчание. Соболь добросовестно поработал над птицей, оставив только ноги да крылья. Впрочем, это нередкое явление, когда глухарь заканчивает жизнь в чьих-то зубах.
Я вспомнил один случай. Как-то удочкой ловил рыбу. Место для рыбалки выбрал в тени большого куста, под перекатом. Клев был удивительный. Прожорливых окуней едва успевал отцеплять.
Вдруг донесся какой-то шум. Он с каждой секундой становился ясней. Я глянул на вершину хребта: большая черная птица, отчаянно хлопая крыльями, спиралью поднималась вверх.
Мне много раз приходилось видеть птиц, спирально уходящих в небо, но то были раненые птицы. А что с глухарем? Он поднимался все выше и выше, спустя минуту или две был уже величиной с воробья.
Но вот глухарь остановился на несколько секунд, все так же отчаянно работая крыльями, а потом камнем полетел вниз, прямо на меня. Я отбежал на несколько метров от куста, и все равно глухарь, как-то неестественно изогнув шею, падал на меня. Мне стало жутко. Я заметался по берегу, не зная, что делать. Наконец догадался и юркнул под куст. Глухарь со свистом пронесся и упал на том месте, где я только что стоял. Птица ударилась грудью, подпрыгнула и застыла, разбросив крылья.
На горбу глухаря сидел колонок и зло смотрел на меня. Я сделал к нему шаг. Зверек изогнулся, заверещал, как трещотка, показывая острые белые зубы.
— Ах ты наглец!
Я запустил в колонка кепкой. Он еще раз потрещал и шмыгнул в траву. Я поднял глухаря. Шея у него была прокушена в нескольких местах.
…Мне было искренне жаль Старика. Я не спрашивал Авдо, как же все-таки она нашла его. Видимо, соболь задавил глухаря на кормежке или на ночлеге.
— Надо переезжать на другое место, — заявила вдруг Авдо.
— Зачем?
— Не будет удачи здесь. Старика нет. Кто помогать будет? Куропатка не зря села на дерево…
— Зачем тебе, Авдо, нужна чья-то помощь? Ты и без глухарей знаешь, где соболи, а где белки живут.
Но Авдо настояла на своем. И мы стали готовиться к переезду.
Было морозное утро. Много света. По лесу гулко разносился каждый звук. Собаки лежали под деревьями. Они были рады отдыху. Я укладывал продукты на нарту, а Авдо снимала палатку. Меня забавляла эта история. Для новой стоянки мы выбрали место за ручьем. Авдо была хмурая, сосредоточенная. Я помалкивал, боялся ненароком неосторожным словом обидеть таежницу. А если бы мы жили в зимовье? Его не перенесешь. Интересно, что бы предприняла Авдо?
К Авдо подошла Назариха, зевнула, потянулась, прогнув спину, и заглянула в палатку.
— Однако, што забыла здесь? — спросила Авдо.
Назариха повиляла хвостом и встала передними лапами на порожек палатки.
— Совсем избаловал тебя Николай, — ворчит Авдо. — Никакого сладу с тобой не стало. Так и глядишь што-нибудь стянуть. Не мешайся под ногами. Иди спать.
Но Назариха уже в палатке. Вынюхивает по углам, чем бы полакомиться. Она по голосу Авдо знает, что ее не прогонят.
— Вот леший, — опустила руки Авдо.
— Может, не будем кочевать? — осторожно вступаю в разговор.
Авдо не ответила, будто и не слышала меня.
И вдруг раздался посвист крыльев. Собаки бросились к сосне у лабаза и залаяли. Невысоко от земли на толстый сук сосны сел глухарь.
— Старик! — радостно вскрикнула Авдо и опустилась на бревно.
Да, это был Старик.
— Ох и прохвостка все же твоя куропатка, — сказал я Авдо. — Завтра же пойду убью её и скормлю со бакам.
— Не ругайся, бойё. В другой раз я хорошо стрелять буду.
Авдо с легкостью девушки соскочила с бревна и принялась устанавливать палатку.
— Сегодня отдыхать будем, бойё. Завтра соболей и белок добудем много.
Глава 11
Авдо тихо напевает. Ее песня про тайгу, про горы, про Старика. Авдо благодарит тайгу за то, что она добрая к охотникам.
— Не надоела тебе эта самая тайга с ее холодами и вьюгами? — спрашиваю я.
— Пошто говоришь так? — поднимает голову Авдо. — Тайга — мой дом. В город один раз ходила, чуть не пропала там, — Авдо покачала головой, засмеялась и стала вспоминать.
— Орден ездила получать. Летела на самолете. Потом на автобусе ехала… На большую улицу попала. Народу, борони бог, сколько. Бегают туда-сюда, будто стадо оленей, которых комары кусают. Встала я у стенки, пусть, думаю, пробегут. Стою, а люди бегут и бегут. У меня даже голова кругом пошла. Останавливаю седого мужика. Раз поседел, думаю, все знает. Спрашиваю:
— Скажи, бойё, где здесь ордена дают?
Он поглядел на меня, возле уха поцарапал.
— Вам, наверное, в больницу? Это совсем рядом.
— Пошто в больницу? Туда старики ходят, а я еще оленя пешком догоню. Орден мне надо. В городе живешь, а ничего не знаешь.
Тут женщина остановилась. «Что случилось?» — спрашивает.
— Бабушка больная, — сказал мужик и показал на голову.
— Бедная, — вздохнула женщина, и они ушли.
Начала спрашивать подряд, где ордена дают. А люди машут рукой и уходят: мол, выжила старуха из ума, что с ней толковать…
Рассердилась я, плюнула и ушла. Бестолковый народ, не знает, где ордена дают. Долго по улицам ходила, никого не спрашивала. Шибко есть захотела. Думаю, где же дров взять, чай варить. У меня в узелке с собой котелок, сахар, хлеб и вяленое мясо.
Увидела, новый дом строят, пролезла в дыру в заборе, насобирала щепок, костер разожгла. Воды мне девушка на улице продала, она на углу красной водой торговала. Я светлой воды попросила. Варю чай, мясо вяленое ем. Подходит ко мне старичок, ругается:
— Ты что, бабка, делаешь? Дом хочешь спалить?
— Пошто дом палить? Или я ребенок без понятия? Чай варю, есть будем. Садись, угощайся. Мясо шибко вкусное.
— Иди отсюда по-хорошему, — грозится старик.
— Поем и пойду, — отвечаю я. Достаю нож, отрезаю мяса. Увидел старик нож, попятился.
— Ты, бабка, того… Брось ножом шутить…
Уковылял старик. Напилась чаю. Курю. Подходит ко мне милиционер.
— Ваши документы?
— Какой документ? Я сама — документ.
— Вы, гражданка, бросьте шутить.
— Авдо не шутит. За орденом пришла. Долго искала, устала. Чай попила, опять пойду. Орден мне, бойё, надо. Без него теперь никак нельзя домой возвращаться. Смеяться люди станут.
— Я, гражданка, не бойё, а милиционер. Вы это понимаете?
— Понимаю. Не ребенок.
— Понимаете, а нож зачем носите?
— Милиционер, а никакого понятия. Как в тайге охотнику без ножа. Чем зверя свежевать, с белки шкурку снимать?
— Вы мне не морочьте голову. Постойте! Вы охотница?
— Охотник.
— Так бы и говорили. Пойдемте в отделение милиции.
Привел он меня в милицию. Ну, думаю, не выбраться мне из этого проклятого города. И так мне в лес захотелось, чуть не заплакала.
Привел меня к самому большому начальнику, спрашивает тот:
— Как вас зовут?
— Авдо, — говорю.
— Авдо Бояршина? Охотница из Ики?
— Оттуда. Приехала орден получать.
— Да мы из-за вас всю милицию на ноги поставили. Весь день ищем. Где вы были?
Я рассказала. Начальник долго смеялся. Потом пришла машина. Повезли меня. Орден вручили. В театр водили. В кино. Завод показывали. А я ходила и все думала, как бы не заблудиться.
— Не поеду больше в город, — смеется Авдо.
— Мне тоже на первых порах было в городе не сладко. Хожу между домов, как среди скал. И тоска такая, что хоть плачь. Отпрошусь у командира на час-другой, уйду в лес, чай сварю, мяса на рожне изжарю. Или ночью потихоньку уйду в сквер (у нас возле казармы лесок небольшой был), сяду под дерево и дремлю. И такая благодать на душе.
Вспоминаю тайгу, горы, быстрые воды нашей реки, родное село, близких, друзей.
Вспоминаю припорошенный первыми снегами глухой лес, гулкий лай собак, шелест белки в вершине кедра, азарт и тяжкий труд охотничьего промысла.
— Возвращался бы теперь в тайгу.
— Не могу. Привязал меня город к себе. Есть там любимое дело. Есть семья. Жена в деревню отказывается ехать.
— Худо твое дело. Поеду к твоей жене, сама говорить буду. В тайгу возьму, стрелять научу.
— И умрет она у тебя где-нибудь от страху. Она ведь, кроме кошки, никакого зверя не видывала.
— Худой парень. Пошто такую жену брал?
— Получилось так.
— Меня надо было спросить.
Авдо порывисто встала и вышла из палатки. Она искренне переживала, что охотники покидают тайгу. Не могла она примириться и с тем, что я живу в городе. Сколько она потратила сил, чтобы научить меня таежному делу. Да и настоящим мужчиной она считает только охотника.
Глава 12
Километрах в восьми от нашей стоянки возвышается хребет Юктокон. Каждый день мы слышим его грозное дыхание. Даже когда стихнет ветер и в низинах успокаивается лес, Юктокон гудит, его шум доносится с такой силой, словно десятки рек ломают ледяную броню. Авдо прислушивается к шуму хребта, покачивает головой и произносит беззвучно, одними губами: «О господи».
— Авдо, а почему ты не ходишь на этот хребет? — спросил я.
— Не любит он, бойё, когда люди его беспокоят. Шибко сердится.
Было бесполезно расспрашивать Авдо, почему Юктокон не любит людей. Веками накопленный опыт она приняла как святые заповеди, которые не подлежат никакому обсуждению. Не любит людей Юктокон, значит, у него есть на них обида. Иначе зачем на них сердиться?
В пасмурную погоду Юктокон серым призраком парит над тайгой, а в ясную стоит как богатырь. Голубая синь ореолом висит над темно-зелеными кудрями кедрача, подернутого инеем. Густая борода с проседью золотыми кольцами сосновых боров падает в низину.
— Горе тому, кого не полюбит Юктокон, — сказала Авдо. — Не будет удачи. Охотился один раз здесь Беспалый. Жадный был старик. Один жил, никого не пускал. Чуть с голоду не помер. А один раз Юктокон оленей от него увел.
— Но мы-то, Авдо, не жадничаем.
— Вот и дает нам бог соболей.
Я долгое время не знал, как поступить с Юктоконом. Мне давно хотелось побродить по этому хребту. Но я боялся обидеть Авдо. Ведь я через несколько недель уеду, а она останется.
— Завтра я иду к Юктокону.
Я решил проверить, как к этому отнесется Авдо. Она даже не глянула на меня. Я не стал повторять. У Авдо были свои привычки, свои правила. Она никогда не говорила вечером, куда завтра пойдет охотиться. Может быть, так поступали её предки. Уважая Авдо, я уважал и её привычки. За это и она платила тем же. Часто целыми вечерами рассказывала, где и какие водятся звери. Искренне огорчалась, если меня постигала неудача, и радовалась любому, даже маленькому успеху. Тогда вечерами она смеялась или начинала петь о щедрости тайги, о солнце, о птицах, которые помогают охотиться.
…Проснулся я на рассвете, вышел из палатки. Стояла морозная тишина. В распадках была еще мгла, и только боры начинали светлеть. Над ними висело голубое небо с потухающими звездами. Деревья стояли подернутые инеем. В морозном воздухе гулко раздавались шаги.
Я посмотрел в сторону Юктокона. Его силуэт пробивался сквозь предутренние сумерки. Хребет молчал. Это предвещало ясную погоду, а значит, и удачную охоту, так как соболи в морозные дни ходят хорошо.
Позавтракав, как всегда, первым ухожу на охоту.
— Черного соболя тебе, Авдо.
— Много белок и соболей, бойё. Примечай лучше места, у Юктокона они обманчивые, заплутать можно.
— Спасибо, Авдо. Я далеко не пойду.
Встал на лыжи и скатился к ручью, а затем поднялся к сосновому бору. Следом шла Назариха. Она опустила голову и думала о чем-то своем. Ежедневная погоня за соболями утомила ее.
Поднялось солнце. Снег заискрился, седые кудри Юктокона тронула позолота. Над лесом показались стаи глухарей и косачей — они летели на кормежку. Заслышав посвист крыльев, Назариха точно проснулась: остановилась, подняла голову, большими прыжками бросилась вперед и исчезла в сосновой роще.
Назариха нашла несколько белок. День начался удачно. Я радовался: «Вот тебе, Авдо, и Юктокон. Должен сказать, он не скупой старик. Убил пятую белку. Если так пойдет, то за день десятка два настреляю!»
Но после пятой белки лес точно вымер. Небо стало тускнеть, Юктокон зашумел. Было жутко слушать его вздохи среди молчаливого, притихшего леса. Я пришел к подножию хребта. Здесь была небольшая «тундра». Табун диких оленей, увидев меня, бросился в лес. Отсюда начинался подъем. Огромные кедры и пихты, обнявшись, уходили в поднебесье, а там, на вершине хребта, над которой распластались снежные облака, стояла серая обветренная скала.
На южной стороне хребта росли сосны, они спускались до речки Ики, богатой хариусами, с северной стороны рос листвяк, который у Глухариного ручья сменялся ельником.
Я поднимался в хребет. В кедровом лесу было глухо и пасмурно. Звуки с вершины Юктокона доносились сюда грозно и монотонно. Снег здесь был истоптан оленями, соболями, птицами и белкой. Назариха в поисках соболя металась по кедровику, но свежий след взять не могла. И только где-то на половине подъема она нашла свежий след. Соболь пошел к речке, пересек ее и поднялся в хребет Биракан. Здесь его Назариха загнала на небольшой кедр. Соболь сидел на вершине. Я выстрелил. Соболь вздрогнул и точно пристыл к веткам. Я выстрелил по сучку, на котором лежал соболь. Зверек не пошевелился. Придется валить дерево.
Я привязал Назариху, чтобы она, когда будет свалено дерево, раньше меня не нашла в снегу соболя и не испортила шкурку. Срубил дерево. Перерыл весь снег под ним, но соболя не нашел. Это меня озадачило. Я хорошо запомнил сучок, на котором он лежал. Но возле этого сучка соболя не было. Тогда я пустил Назариху. Она бросилась не к вершине дерева, а совершенно в другую сторону. Что с ней? Пошел по ее следу. Соболиный след, Эх черт… Видно, соболя я только ранил. Пока рубил дерево, он очнулся, спрыгнул и убежал.
Километров через пять мы загнали его в скалы. Выгнать из них раненого зверька было невозможно.
День на исходе. Ветер гонит по небу облака. Лес гудит. Я спешу: до палатки более двадцати километров, и если учесть, что местность я знаю очень плохо, первый раз хожу в этих лесах, то ясно, какой мне предстоит путь.
Ночь пришла скоро, темная, снежная. Я держу путь между Юктоконом и Бираканом, надеясь пересечь свою старую лыжню и по ней добраться до палатки.
Лыжню в темноте я не заметил. Ночь скрыла от меня все ориентиры. Отчаявшись найти палатку, в полночь, смертельно усталый, я разложил в сосняке костер и решил дождаться утра.
Наломав веток, устроился на них. Ободрал белок, накормил Назариху, поджарил две беличьих тушки для себя. Перекусил, прилег к костру. Ветер неистовствовал: раскачивал деревья, сыпал снегом, раздувал костер. Но усталость сделала меня ко всему равнодушным. Костер пригрел спину, и я начал дремать. Вдруг совсем рядом раздался ружейный выстрел. Я вскочил. Не во сне ли услышал? Выстрел повторился. Я отозвался, схватил ружье, лыжи, понягу и бросился в снежную кутерьму. Пробежав шагов сто, увидел палатку, возле нее Авдо с ружьем.
— Где потерялся, бойё?
Я рассказал Авдо, как было дело.
— Я тоже в этих местах не раз плутала.
Как мне хотелось подойти к ней и пожать руку за её великодушие. Я знал, что Авдо говорила так только для того, чтобы уберечь мое мужское самолюбие. Заблудиться в тайге можно, но мужчине все-таки неудобно. Я не пожал Авдо руки, ложный стыд не позволил мне это сделать.
— Пойдем ужинать. Я сейчас чай подогрею.
Но чая я не дождался. Умывшись, прилег на оленью шкуру, и меня тотчас сморил сон.
Проснулся от глухого стона тайги. Семичасовой сон вернул силы и бодрость. Я лежал и слушал, как гудит лес. Ветер бился о стены палатки, завывал в трубе. Где-то у ручья с треском упала лесина. Тонко и нудно скрипела сосна у лабаза. Все это было уже привычным и в то же время необычным. Я чувствовал себя беспомощным птенцом среди разъяренной природы.
Вдруг собаки с громким лаем бросились в глубь бора. Авдо села, зажгла лампу.
— На кого это они? — спросил я.
— Шибко худая погода. Пень за зверя примешь.
Собаки вернулись к палатке и стали укладываться на свои места. Авдо успокоилась.
— Куда сегодня пойдешь? — растапливая печку, спросила Авдо.
— К Юктокону.
— Без добычи опять будешь.
И верно, в этот день я вернулся даже без единой белки. Хуже того, Назариха напала на свежий след сохатого и угнала его. Я проследил её километров пятнадцать. Сохатый ушел в сторону реки, а за ним убежала и Назариха.
— Юктокон собаку увел. Не надо его больше тревожить, — посоветовала Авдо.
— Почему Юктокон? Снег выгнал сохатых из хребтов. Зверя я мог встретить в любом месте…
Авдо спорить не стала.
— Если не придет Назариха ночью, в деревне будет. Мать напугается. Собака пришла, охотника нет. Неладно что-то. Иди утром домой, — сказала Авдо.
Но Назариха вернулась. Утром снова иду к Юктокону. Я решил не отступать. Поднимаюсь распадком на хребет. Сонный ельник стоит недвижимо. Иногда по вершинам пробежит ветерок, прошелестит ветками, и все замрет. Кажется, нет здесь жизни.
И вдруг весь распадок наполняется свистом рябчиков, хлопаньем крыльев. Серые комочки рассыпаются по веткам елок. Назариха бегает от дерева к дереву, оглядывается на меня, она рябчика не считает за серьезную птицу, стоит ли лаять.
Я сдергиваю с плеча тозовку. Теперь лай Назарихи катится по распадку, ударяется о горы и многоголосым эхом возвращается обратно. Прицеливаюсь в самца, который сидит на макушке кудрявой елочки, подергивает хвостом и тревожно посвистывает. Выстрел. Рябчик судорожно машет крыльями и падает в снег. Назариха большими прыжками бросается к нему, хватает, над снегом летят перья.
Подстрелив несколько рябчиков, иду дальше. Снег здесь глубиной около четверти, отливает темноватой зеленью. Местами он разрыт кабарожками. Следов их очень много. Здесь они пасутся, добывая из-под снега корм. Иногда попадаются следы зайцев и горностаев.
Взобравшись на хребет, делаю привал. Солнце уже поднялось высоко. С хребта на десятки километров видно все вокруг. Во все стороны лесенками убегают горы и теряются в голубоватой дымке. Воздух чист, пахнет смолой, снегом. Он наполнен потрескиванием деревьев, перестуком дятлов, попискиванием птиц и еще сотнями звуков.
Назариха подошла ко мне, легла, потом подняла морду, понюхала воздух и стремглав бросилась вдоль хребта. Неужели опять сохатого учуяла? Иду по следу Назарихи. Она пробежала метров триста по такой прямой, точно нитку натянула, возле соснового бора перехватила след соболя и ушла по нему к подножию хребта.
Соболь прошел недавно — след еще не застыл. Он шел неторопливо, делая остановки, охотился за мышами, рябчиками. В одном месте попытался задавить кабарожку. Она лежала под елочкой. Подкрался метра на два, залез на колодину и прыгнул. Кабарожка вскочила, с перепугу ударилась о дерево. Соболю в грудь угодил сук, сбил его с кабарожки. Как ошпаренный, отскочил он от дерева и пошел дальше.
Километра через два вышел на каменную россыпь. Здесь ему пересек дорогу другой соболь. Следы его были немного меньше. Соболь потоптался на них, обнюхал и помчался в погоню. Видимо, второй соболь зашел в чужие владения, и этот решил его наказать. Или же пришла подружка, и он побежал догонять ее, чтобы поиграть. Меня устраивало и то и другое, так как можно было добыть сразу двух соболей.
Из низины донесся лай Назарихи. Когда я спустился туда, Назариха бегала по ельнику и лаяла то на одно, То на другое дерево. Весь снег был истоптан соболями. Я внимательно оглядел деревья — ничего нет. Тогда сделал полукруг и перехватил след, где соболи спустились с хребта. Следы привели к густой ели. На ней было разворочено беличье гнездо. Недалеко от ствола в снегу две ямы, одна больше, другая — меньше.
Значит, так было дело. Меньший соболь полакомился в гнезде белкой и решил сделать дневку. Второй здесь его настиг. Меньший соболь выпрыгнул из гнезда, второй — за ним. Соболи прыгали с дерева на дерево, несколько раз, сцепившись, сваливались.
В конце концов они так накружили, что я запутался в следах. Назариха перестала лаять и металась по ельнику то в одну, то в другую сторону. Соболи где-то здесь или только что ушли, а поэтому она спешила распутать следы.
— Назариха! Круг надо делать! — крикнул я.
Назариха будто поняла меня, описала круг, перехватила след и помчалась к березовой роще. Я вышел на ее след и вскоре у колодины увидел кровь на снегу и клочья рыжей шерсти. И стало ясно, из-за чего произошел поединок. По своей неопытности я след колонка принял за соболиный. Колонок — главный «пищевой» конкурент соболя. Пока я рассматривал клочья шерсти, Назариха уже лаяла. Соболь, пообедав колонком, завалился спать в дупле колодины. Здесь его Назариха и нашла. Она лаяла, грызла колодину, соболь грозно урчал. Я обошел колодину вокруг. Как соболя выловить из нее? Решил покараулить у дыры. Сел с одной стороны, Назариха — с другой. Просидели около часа, а соболь не показывался.
Пришлось заткнуть дыру, вдоль всего дерева прорубить щель. И уж потом, когда соболь стал виден в щель, я застрелил его.
В палатку я возвращался в отличном настроении. Дорогой еще спромышлял более десяти белок.
— Слава богу, — проговорила Авдо.
— Почему богу? Юктокону. Оказывается, старик добрый. Я с него за все потерянные дни возьму с лихвой.
И верно, каждый день я стал возвращаться с богатыми трофеями. Наконец отважилась пойти к Юктокону и Авдо. В первый же день она спромышляла двух соболей.
Авдо долго молчала в этот вечер. Я видел, что какие-то думы мучают её. Наконец она посмотрела на меня и спросила:
— Однако, старики обманывали?
— Они были такие же смертные, как и мы. И могли ошибаться, — стараясь не обидеть предков, как можно мягче ответил я.
— Старики много жили, много знали…
— Но слишком коротка у них жизнь, чтобы все знать. И мы тоже всего не знаем и никогда не узнаем.
— Старики должны все знать, — упрямо сказала Авдо.
Я промолчал. У Авдо появились сомнения, а это уже хорошо. С меня довольно уже и того, что я отнял у стариков Юктокон и отдал Авдо.
Глава 13
Вот уже около месяца мы охотимся с Авдо. Дни стоят пасмурные, снежные. А тут как-то ночью вызвездило. Мы обрадовались, что наконец-то устанавливается хорошая погода. Но на рассвете откуда-то набросило тучу, тайга зароптала, повалил мелкий снежок.
Я хотел сделать дневку, но раздумал и пошел к хребту Юктокону, надеясь там что-нибудь спромышлять. Поднялся на гребень хребта и, не торопясь, побрел к утесу, который серой стеной маячил над Лесом. Также не торопясь, впереди меня трусила Назариха.
Вскоре я добрался до утеса. Растолкав могучие кедры, на большой площади громоздились холодные каменные глыбы. На гранитном постаменте, точно дозорные, стояли три столба. Возле них снег был истоптан кабарожками. Я присел, закурил. Вокруг были горы, одни походили на верблюдов, другие лежали медведями, третьи паслись стадами диких оленей. Среди них вились полоски речек, белели озера и тундра. Озеро у самого изголовья Юктокона дымилось. В нем всю зиму бурлили теплые подземные ключи.
Я несколько раз собирался сходить к этому озеру, но все как-то не получалось: то по пути след соболиный встретится и уведет в другую сторону, то белку проищешь, а там и день кончится.
«Схожу сейчас», — решил я и поднялся, чтобы пойти, но услышал какие-то непонятные звуки: будто кто-то неторопливо бил в колокол. Мелодичные звуки залили тайгу.
«Лебединая песня?!» — удивился я. Певучие серебряные звуки неслись снизу. Тридцатиградусный мороз и лебеди? Это было похоже на сказку. Я прислушался к скалам: может быть, скалы поют. Такое в природе бывает. Но нет, звуки доносились снизу.
Назариха тоже с настороженным любопытством смотрела вниз. А звуки нарастали, становились громче, крепли. И вот над туманом, шапкой накрывающим озеро, показалось два лебедя. Две огромные белые птицы набирали высоту. У них тонкие длинные шеи и неторопливый, грациозный взмах крыльев. Из-за туч выглянуло любопытное солнце, на хребет хлынул поток света, туман над озером стал светло-зеленым, а птицы — голубыми. И казалось, что поток света льется не от солнца, а от этих красивых птиц.
Лебеди поднялись в поднебесную высь и стали кружить над Юктоконом. Нежные, мелодичные звуки их песни падали на землю. Присмирела тайга, затих ветерок.
Около часа кружили лебеди над горами, потом песня оборвалась, и птицы, сложив крылья, как два белых облака, упали к подножию хребта и утонули в тумане озера.
Скрылось солнце. Сыпанул мелкий снежок. Снова все посерело. Тяжело вздохнул Юктокон и замер, будто уснул.
В этот день мне не захотелось выслеживать зверя, не хотелось нарушать сон Юктокона выстрелами. И я вернулся на стоянку, а вечером рассказал о птицах Авдо.
— Это они тебе пели, — радостно сказала Авдо. — Олия и Гарикан посылают тебе удачу.
— Олия и Гарикан? — переспросил я. — Кто они такие?
— Шибко не торопись, — набивая трубку, проговорила Авдо. — Расскажу.
Авдо раскурила трубку и заговорила глуховатым голосом:
— Это было в то время, когда на небе луна появилась. Тогда возле Юктокона жил князь Кулинда. Со своим отрядом ходил он по тайге, много воевал. Нападет на стойбище, всех мужчин перебьет, а детей и женщин в плен уведет.
Однажды вернулся князь из большого похода, девушку привез. Шибко красивая она была: легкая и быстрая, как молодая важенка, лицом белая, а в глазах будто вся озерная синь отразилась. А как она пела. Даже птицы слетались ее послушать.
Полюбил князь Олию — так звали девушку. На берегу озера чум для нее поставил. Приказал своим женам развлекать ее. Из серебра и золота каждый день подарки носил.
Но гордая девушка подарки бросала в озеро. Любила она отважного воина Гарикана. Для него она пела песни, ему ночами в подушку шептала ласковые слова.
Узнал об этом князь, черным вихрем ворвался в чум, хотел силой взять девушку. Схватила Олия кинжал, к белой груди приставила и говорит:
— Слушай, князь, ты сильный. От одного твоего слова огнем занимаются целые селения, рекой проливается кровь. Но моя любовь сильнее. Я у тебя в плену, но сердце моё вольное. Орлицу можно посадить в клетку и приковать цепями, но она никогда не забудет грозных бурь и голубой выси. Ты хочешь ее купить за серебро и золото, а она отдаст весь мир только за то, чтобы хоть раз услышать гордый крик орла.
Не посмел подойти князь к Олии, только недобро сверкнул глазами. Уходя, приказал своим слугам день и ночь стеречь девушку.
День томится в неволе Олия, второй, а на третий день, когда пришла ночь и тучи закрыли месяц, Олия с Гариканом обманули стражу и бежали. Горы с радостью приняли влюбленных. Под густыми кедрами первый раз в жизни целовала Олия парня. Но на рассвете их нагнала стража, со всех сторон посыпались стрелы. Гарикан своей грудью прикрыл девушку. И только тогда, когда юноша стал истекать кровью, их схватили и привели к грозному князю.
Но и теперь не испугались князя влюбленные. Олия выдергивала из груди Гарикана стрелы, целовала раны и говорила:
«Князь, я любила только одну ночь, но теперь я знаю, что такое жизнь, и могу спокойно умереть».
Князь приказал бросить их в озеро. Влюбленных привели на скалу и поставили у обрыва. Обнялись Олия с Гариканом и шагнули в пропасть.
В это время налетела буря, разметала княжеских воинов, а на пенистые волны вместо юноши и девушки опустились два лебедя.
С тех пор прошло много-много лет. Не одно поколение состарилось и умерло, но лебеди ни на один день не покидали озера. И к тому, кому они пропоют песню, придет большая удача.
Авдо замолчала. Лицо ее было задумчиво. Кто знает, быть может, эта легенда напомнила ей о своей далекой юности, которая прошла вот в этих горах.
Глава 14
День сегодня какой-то тяжелый. Тело будто из ваты. Я дошел до речки и присел на поваленное дерево, которое вмерзло в лед. Настроения нет. Назариха это чувствует, побегала-побегала по берегу и подошла ко мне.
— Охотники из нас сегодня — ни к черту.
— У-у-уу, — отвечает Назариха. — Раскис ты.
Назариха ложится и счищает зубами снег с лап.
Со всех сторон горы, серые, безрадостные. Над ними бегут такие же серые облака. На крутом берегу речки темные ели лениво покачивают ветками. Они утомились от буйных ветров и морозов. Где-то подо льдом позванивает вода. Только она напоминает о жизни в этом заснеженном безмолвном лесу.
Я устал, а усталость укротила мою охотничью страсть. Острота впечатлений с каждым днем сглаживается. Я уже чувствую себя на обыденной работе, от которой остается всего несколько часов для сна. Изнурительная работа — и сон. Вот и вся прелесть охотничьей жизни. Все чаще и чаще думаю о бане, чистой постели, о книгах и других житейских мелочах, которых здесь лишен.
Если кто-то завидует таежникам, то только по своей наивности. Просто не все знают, что охотничьи приключения не так уж развлекательны, как о них пишут в книгах. Они рождаются в тиши кабинетов в богатом воображении писателей, чаще всего не знающих труда охотников.
А действительность совсем иная. И не удивительно, что молодежь уезжает в город. А вот бы построить для каждой охотничьей бригады уютный домик, баню. В палатке к утру такой холод, что из спальника вылезать не хочется. Меня от слов «мягкое золото» морозом и горьким дымом костров обдает… И я не удивлюсь, если через год-два забьем тревогу, что некому охотиться.
Сколько ни философствуй, а работа есть работа, и за меня ее делать никто не будет. Я встаю и бреду дальше. Под снегом мох, ноги проваливаются, и от этого идти особенно тяжело.
Назариха находит несколько белок. А я единственно молю бога, чтобы не попался свежий след соболя: Назариха уйдет за соболем, а одну её в лесу не бросишь.
В сумерках возвращаюсь на стоянку, но там, где стояла палатка, теперь только черный квадрат земли. Не свихнулся ли я? Но вот лабаз, рядом огнище, где мы варили еду собакам.
Меня охватила тревога. На ум приходит нелепая мысль: может быть, за нами из села прислали подводу и Авдо уехала. Но тогда был бы след саней, а его нет. А может, шатун без нас похозяйничал? Так не съел же он палатку.
«Наверное, Андрей с Валентином и Михаилом чудят», — мелькнула догадка. Мы как-то в молодости соседям дверь зимовья на гвозди заколотили. И не лень было за двадцать километров идти. А они нам в отместку взяли мешки с продуктами и привязали к вершине дерева, а сучья с него обрубили.
Я разложил костер и стал поджидать Авдо. Вскоре и она появилась, но без ружья и поняги. Я на это не обратил внимания.
— Ты што тут делаешь? — спросила Авдо.
— Тебя жду. Да ты посмотри, палатку-то черти украли.
— Пойдем, есть палатка.
Палатка стояла за ручьем, в ельнике. В ней было тепло, топилась печка. Все вещи, как и на прежней стоянке, были на своих местах.
— А где парни? — спросил я.
— Какие парни? — удивилась Авдо.
— Палатка ведь не на крыльях сюда перелетела.
— Я перенесла, — как будто между прочим проговорила Авдо.
Я не сразу понял смысл ее слов.
— Ты перенесла? Зачем?
— Шибко худой сон видела. Недобрые духи пришли в палатку. Вот и укочевала от них.
Теперь я только понял, в чем дело. И, смеясь, повалился на оленью шкуру.
— Пошто смеешься, бойё? — серьезно спросила Авдо.
— Сон-то у тебя где был? В голове. Так надо было голову там оставить, а не палатку на новое место переносить.
— Как же без головы-то будешь?
— А если и сегодня плохой сон приснится?
— Еще кочевать будем. Пока злые духи не отстанут.
— Авдо, а если ты в деревне, в доме, плохой сон увидишь? Что тогда делать? Дом перетаскивать?
Авдо смотрит на меня озадаченно. Над этим она, видимо, никогда не задумывалась.
— В деревне не на охоте, — наконец нашлась она. — Там злые духи што смогут сделать?
— Ох и хитрая ты, Авдо.
— Пошто хитрая? — улыбается она.
— Даже злых духов обманула. А я-то думал, куда палатка делась?
Авдо, посмеиваясь, стаскивает с печки кастрюлю с мясом.
— Однако, ты, бойё, парням не говори, — просит Авдо.
— Почему?
— Зубоскалить будут над старухой. Скажут — ума лишилась. Андрей проходу не даст. Борони бог, какой насмешник.
Мы поужинали. Настроение у обоих немного грустное. Авдо вспоминает о старине, о днях детства.
— Отца я своего не помню. Медведь его на охоте задавил. Мать маленько помню. Весной на стойбище болезнь пришла. Много людей померло. Умерла и мать моя, два брата. Мы вдвоем с сестрой Агафьей остались. Подросли, в няньки пошли. Так у чужих людей и выросли.
Налетел ветер, тряхнул палатку.
— До завтра не уймется, — проговорила Авдо. — Злой какой, борони бог.
Я давно заметил, что Авдо часто говорит: «борони бог», «прости, господи», «бог с тобой». Набожность таежницы меня вначале удивила, и я искал случая, не обижая Авдо, как-то поговорить на эту тему. На этот раз я осторожно начал:
— Неважный у тебя бог, Авдо.
— Пошто?
— Погоды несколько дней не дает.
— Землю согреет снегом, морозы пошлет.
— К богу обращаешься, а иконы нет.
— Была икона, бойё, была.
— Где же она?
Авдо задумалась, долго смотрела на трубку, которую держала в жилистой руке.
— Первый бог мне от матери достался. Орлом был: наш род от орлов идет. Шибко хранила его. Каждый день, когда солнце вставало, кормила его, удачи просила.
Много лет прошло. Замуж вышла. Хозяйкой стала. Сильной была. И бог удачу посылал. Потом война пришла. Мужа на фронт взяли. Я бога просила сберечь его. Не захотел он — убили мужа. Слез моих захотел. На што ему слезы? Много слез было. К горам ходила, их спрашивала, пошто на Авдо бог рассердился. Ничего не сказали горы, только много шумели. От слез сердце просолело, крепкое стало, как лиственница. Потом зять с войны пришел. Много ран принес. За него молиться стала, здоровья ему у бога просила. Не услышал меня. Зятя к себе взял. Ребятишек одних оставил. Пошто детей обижает? Што они ему сделали? Нехороший бог. Злой бог. Как бабам жить? Кто кормить их будет? Как без мужиков ребята охотниками станут, кто научит их?
Рассердилась я, прогнала бога-орла.
— Как же теперь без бога обходишься?
— Хорошие собаки есть. Здоровье есть. Все бог дает. Только старею. Глаза затупились. Дробью стрелять надо.
Вот, оказывается, какая ее набожность. Теперь мы часто говорим о богах, поругиваем их, когда нет удачи.
— Не ходил сегодня соболь, — говорит Авдо. — Ветер, снег идет. Худо соболю промышлять еду, спит в колодах. Два дня, три дня спать будет. Потом много ходить будет, птицу искать. Хорошо добудем.
— Обленился твой бог, Авдо, совсем добычи не даёт.
Глава 15
— Черного соболя тебе, Авдо.
— Соболиных троп, бойё.
Я вышел из палатки. Низко висело серое небо. Деревья стояли полусонные, притихшие. Я надел лыжи, взял ружье. Из-под развесистой елки поднялась Назариха, сладко зевнула.
— Ну как, добудем сегодня соболя? — спросил я.
— У-у-уу, — ответила Назариха.
Я иду к Биракану. К его подножию проложена лыжня. Идти по ней легко.
Лес просыпается неохотно. Одна за другой пролетают стаи глухарей и косачей на кормежку. Назариха провожает их недружелюбным взглядом. Она все еще не может смириться с моей дружбой со Стариком.
Глухарь по-прежнему живет в бору. Каждый вечер он встречает меня и Авдо. Только ведет себя осторожно, подходит лишь тогда, когда нет собак.
Назариха на него даже не смотрит. Но каждый раз в пасмурную погоду в тайге она давит по глухарю. Как она это проделывает, я не знаю. Глухарь — чуткая птица, его не всегда удается подстрелить, а поймать, казалось, совсем невозможно.
Поднялся на хребет. Подул ветер. Деревья закачались. Авдо такой лес называет пьяным. И в самом деле, деревья походили на подгулявших парней, которые не столько от хмеля, сколько из озорства выделывают кренделя.
На склоне лес был лиственный. На вершине сменился сосновыми борами. В складках росли ольховник, волчья ягода и вереск. Иду борком. Увидев, что Назариха замерла, остановился и я, стараясь угадать, кого она учуяла. Назариха легла на живот и поползла к кусту вереска. Затаилась за ним. Я шагнул за дерево и увидел трех глухарей, которые паслись возле кустарников, склевывали с них черно-синие ягоды, постепенно приближаясь к Назарихе.
Вот один из глухарей остановился, перебрал клювом перышки на крыле и, не подозревая об опасности, крупным шагом пошел к кусту вереска, за которым спряталась Назариха. У Назарихи нервно вздрагивал кончик хвоста. Потом она чуть привстала — и прыгнула. Глухарь испуганно кыркнул, взмахнул крыльями. Над глухарем и Назарихой взметнулось облако снежной пыли, перемешанной с черным пером. А несколько секунд спустя Назариха, поставив передние лапы на глухаря, с победоносным видом смотрела на меня.
До вечера Назариха задавила еще одного глухаря.
— Я двух косачей подстрелила, — сообщила Авдо, когда я вернулся в палатку. — Стреляла в глухаря, да промазала. Глаза слабеют.
Я рассказал, как Назариха поймала глухарей.
— Умная собака, — сказала Авдо. — В своего родителя Моряка уродилась. Осенью от нее щенка возьму. Мой Пулька стариком стал. Хромает и плохо слышит.
Рождение собаки с особым талантом — редкость. Но если такая была, о ней будут рассказывать из поколения в поколение.
Глава 16
Морозы становились крепче, снега глубже, а дни короче. Собакам стало ходить тяжело. Все чаще и чаще они упускали соболей. Подходили к концу продукты. В один из таких дней Авдо мне сказала:
— Завтра, однако, приедет Василий Рожнев. Пора домой кочевать.
На другой день, когда я вернулся с охоты, у лабаза стояла лошадь и лениво жевала овес.
Рожнев вышел из палатки. Поздоровался. Невысокого роста, щупленький, с острой бородкой, он озирался по сторонам, точно ждал откуда-то нападения.
— Авдо-то скоро придет? — спросил он скороговоркой.
— Если не гоняется за соболем, то не задержится.
Авдо не задержалась. Втроем мы поужинали. Я уже привык к этой палатке, к шуму тайги, к неторопливому голосу Авдо, к Старику. И оттого, что завтра все это надо покидать, немного грустно.
Рожнев рассказывал про деревенские новости. Кто из охотников вышел из тайги, кто и сколько убил соболей. Мы с Авдо оказались не из последних. Авдо добыла больше меня и многих охотников.
— В другой раз я тебе не поддамся, Авдо.
Авдо улыбнулась, ей приятно, что она добыла соболей больше, чем я.
— Приезжай, бойё. Я тебе хорошую собаку выращу. В этих местах соболей прикормлю. Хорошо охотиться будешь. Юктокон полюбил тебя. Лебеди тебе песни пели.
— Обязательно приеду, Авдо.
Рожнев слушал и посмеивался в острую реденькую бороденку. Он был еще не стар, и меня несколько удивило, что он не занимается охотой. Ведь на севере даже многие женщины стремятся охотиться, а для мужчины не быть охотником — это добровольно отказаться от мужского достоинства.
Осторожно я спросил об этом Рожнева. Он в ответ громко рассмеялся.
— Попробовал, да не получилось.
— Как так?
— А вот так… — и Рожнев рассказал, как на охоте у него одна неудача стала следовать за другой. — Как-то раз летом выкопал на сохатых яму. Это еще дело было в тридцатых годах. Пришел через несколько дней, а в яме колхозный конь оказался. Хотели судить. Кое-как выпутался. В другой раз с Гавриилом Романовичем Сухановым пошли на солонцы. Посадил он меня в одно место, сам ушел на другое. Ночь выдалась темная. Дождь собирался. Духотища. Комары донимают. А попробуй пошевелись. А тут страх еще взял. Кое-как пережил ночь, к утру задремал. Сквозь сон слышу дыхание за спиной. Открываю глаза… Медведь! Заорал, конечно, и нажал на спусковые крючки. Ружье бабахнуло из обоих стволов. Не помня себя, выскочил и бежать. Тут Гавриил Романович попался и схватил за руку. «Что ты орешь?» — спрашивает. — «Медведь там». — «Какой тебе медведь? Это мой кобель Демон». Отдышался кое-как и говорю Гавриилу Романовичу: «Ты как хочешь, а у меня дела в деревне есть. Жена хворая. Ребятишки без присмотра. Прощевай».
Года три после этого не ходил в лес. Ан нет, снова соблазнился, пошел с Гавриилом Романовичем белковать.
— Может быть, из меня бы охотник и вышел, — продолжал Рожнев, — так нет, черт медведя подсунул. Как вспомню, так вздрогну. До сих пор мурашки по коже ходят. Охотились мы тогда с тозовками. Подняли собаки медведя из берлоги, погнали. Мы за ними. Догоним — чих-чих, а он, как от комаров, отмахивается. По пачке патронов расстреляли. Наконец-то доняли. Ложиться стал. Кровь на снегу остается. А тут ночь наступает. Выстрелили еще по разу, побежал. Собаки за ним. В хребет идет. Идем по следу. Темно стало. Собаки бросили зверя — устали. Что делать? Прошли еще с километр по следу, поднялись в хребет, выбрали толстый кедр и под ним костер разложили. Покурили, наломали веток. Я прилег к костру и стал дремать. Среди ночи собаки вдруг лай подняли. Раздался треск сучьев. Я вскочил. Спросонок ничего не пойму. А медведь — бух прямо в костер. Головешки во все стороны!
Бедная моя головушка! Оказывается, медведь сидел на кедре, под которым мы костер разложили.
Авдо усмехнулась, покачала головой, весь вид ее говорил: «Однако, бойё, лишку хватил. Да уж больно складно врешь. Продолжай! Оно-то со смехом легче жить».
— Ты, Гавриил Романович, как хочешь, — говорю я ему, — а мне жить надо. И дал я деру к зимовью. Километров пятнадцать отмахал без передышки. Когда пришел в зимовье Гавриил Романович, я в горячке валялся. Тогда Гавриил Романович уложил меня на нарту, привязал, чтоб я дорогой не убег, и прямо в деревню доставил. Три месяца отвалялся в больнице, потом пришел домой, взял ружье и в речку бросил. С тех пор вот и живу спокойно. Привык к такому своему положению. Дело, слава богу, находится. Соседи уважают. Ну, посмеются иной раз. Да то не беда.
Мы с Авдо до слез смеялись над незадачливым охотником, смеялся и сам Рожнев.
Глава 17
Утром мы сняли палатку, сгрузили пожитки на дровни и двинулись к реке, чтобы по ней ехать домой. Отъехали немного, я оглянулся. Там, где стояла наша палатка, виднелись жерди, точно обглоданные ребра какого-то животного. Между сосен темнел лабаз. Вот над бором мелькнул глухарь и сел на ветку у лабаза. Вытянув шею, с недоумением поглядел на опустевшую стоянку. Увидел Авдо и меня, обрадованно завертел головой. Щемящая боль разлуки царапнула сердце. Прощай, Старик, верный страж нашего охотничьего счастья. Наверное, больше никогда мы не увидимся. Спасибо тебе за дружбу, за то, что скрашивал наше одиночество. Старик снялся с дерева, пролетел над нами и скрылся за бором.
Вскоре мы подъехали к зимовью. Оно стояло у небольшого ручья. В нем обычно никто не жил: охотники уезжали подальше, в глухие места. К нашему удивлению, у зимовья горел костер, на нас залаяли собаки.
На шум из зимовья вышли Андрей, Валентин и Михаил Сафьянников. Валентин узнал меня и пошел навстречу. Был он плечистый, чуть сутулился. На грудь падала широкая черная борода, со смуглого лица смотрели умные карие глаза. Мы обнялись. Потом подошел Михаил, подал руку. Рядом с Андреем и Валентином он казался совсем маленьким. Лицо круглое, рыжая курчавая бородка веером, а глаза голубые, чистые. От него так и веяло добротой и простодушием.
— Отстрелялись? — спросил Валентин.
— В баню надо, — ответила Авдо. — А вы пошто у костра сидите? Или соболи сами к вам приходят? Пошто здесь остановились, в деревню не идете?
— Шатун за нами увязался. Второй день покоя не дает, — сказал Валентин. — Убить надо, иначе кого-нибудь задерет. И вы оставайтесь. Потом всей компанией двинемся домой.
Авдо задумалась. Потом тряхнула головой.
— Однако, я маленько боюсь амаку. Но всем народом-то ничего, сладим.
Мы с Михаилом проводили Рожнева почти до деревни и наказали, чтобы он предупредил людей о появлении шатуна. Неровен час, может и в деревню пожаловать. Сами вернулись к зимовью. День был тёплый: по небу бродили снежные тучи, дул ветер. А там и ночь подоспела, темная, сырая, повалил мокрый снег.
Все мы были возбуждены. Шатун прячется где-то вблизи зимовья, ждет удобного момента. Завтра пойдем его искать. Но будет ли он ждать до утра? В любую минуту может появиться у зимовья, поэтому ружья заряжены пулями и стоят у двери, схватить их — дело нескольких секунд.
Выходим с Валентином из зимовья. Не то снег, не то дождь. Только этого не хватало. Ведь это настоящая беда для зверей: образуется ледяная корка, все ноги поранят. Собаки не спят, с тревогой посматривают в глубину бора. Людоед где-то здесь. Зверовые собаки на привязи, чтобы не ушли за зверем ночью: угонят его куда-нибудь.
Возвращаемся в зимовье. Авдо сидит на нарах и курит трубку. Вид у нее серьезный: с шатуном не шутят. Михаил чинит ичиги. Андрей ходит по зимовью, длинный, голова под потолок, недобрым словом поминает и мокрый снег, и шатуна. Он сильно прихрамывает.
— Ты где это ногу покалечил? — спросила Авдо.
— С сохатым бодался, — вместо Андрея ответил Михаил.
— Вот он ему по мягкому месту и наподдавал.
— Как так? — удивилась Авдо.
— Такой же баламут, как Михаил, попал, — садясь на нары, стал рассказывать Андрей. — Мясо вышло. Пошел я чего-нибудь спромышлять. Речку Белую помнишь? Вот в вершину ее и пошел. Дорогой мне соболиный след попался. Собаки понюхали и убежали. Старый. Я всё-таки решил последить, может, где недалеко залег в дупле. А соболь такой скверный попался, идет больше чащей, виляет то туда, то сюда. Потом мышей начал в россыпи промышлять. Все истоптал, насилу я след распутал.
Впереди собаки залаяли. Обрадовался, может, в дупле нашли. Подхожу, а они рябчиков гоняют. Отругал я собак, а сам сел курить. Рядом гарь. Нарос молодой осинник. Любят тут сохатые бывать. Думаю, обойду вокруг закрайком. Если сохатый не потрафит, соболя найду. Они сюда после ягоды на мышей охотиться ходят.
А собаки опять лают. Да так напористо. Кого это они там? Выхожу из ельника на гарь. Сохатый стоит. Бык. Увидел меня, уши приложил, как лошадь, и пошел на меня. Дело нешуточное, промахнись, тотчас на рогах будешь. Впереди колодина лежит, до земли не достанет, сучья мешают. Подвигаюсь, в случае чего под ней схоронюсь. А бык идет, рога опустил. И чего ему взбрело в голову? Отродясь не слыхивал, чтобы не раненый зверь за человеком гонялся.
Уловил я момент, стрелил. Пуцкнула пуля, попал, но не по месту. Бык вздрогнул и со всех ног на меня. Юркнул я под колодину. А он подбежал, бьет передними ногами, меня старается достать.
Я отодвинулся подальше. Он догадался, в чем дело, перепрыгнул колодину и давай с другой стороны бить копытами. Мне бы стрелить его, так не высунешься. А видно только ноги.
Тут насели на него собаки. Бросился он на них. Я высунулся. Стрелил два раза, да торопился, промазал. Сохатый опять ко мне. Так он меня раза три под колодину загонял. Топчется-топчется, а потом как ударит рогами по колодине, аж гул в ушах стоит. Не проклятущий ли зверь? И с чего взбесился? Ладно, колодина ядрёная была, а то бы каюк мне.
Только силы-то у него начинают сдавать. Настрелял я его. Думаю, сейчас завалится. А бык отступил немного да как шуранет рогами под колодину, я и вылетел оттуда. Тут бы мне и конец, только сохатый-то упал на коленки и никак не может вытащить рога. Я его в лоб и торнул. Сгоряча-то я боли не почувствовал. Отсвежевал, пошел домой. Чую, зад ломить стало, а потом нога совсем занемела, как палка сделалась, шагу сделать не могу. Пришлось костер разводить. Тут ребята меня нашли.
Не успел Андрей рассказать эту историю, как собаки подняли лай. Мы схватили ружья и выскочили из зимовья. Собаки лаяли в глубину бора. Валентин разрядил карабин по темнеющему лесу.
— Пусть не забывает, что его здесь ждут, — проговорил Валентин.
Собаки успокоились. Мы вернулись в зимовье. На душе было тревожно.
Авдо курит трубку, чутко прислушивается к каждому звуку, доносящемуся из леса.
— Совсем худой зверь-бродяга, — говорит Авдо. — Один раз на стойбище к нам пришел. Кругом олени бродят, собаки бегают. Не стал их ловить. В чум забежал, давай людей убивать. Пошто так? Все понимает: надо вначале охотников задавить, потом оленей.
В другой раз весной к нам повадился ходить. Мы тогда с мужем оленеводами в колхозе работали. Такой смелый, борони бог. Придет днём и задавит оленя. Устроили мы с мужем засаду. Дней пять сидели. Потом как-то под утро смотрим — идет. Матерый такой. Сделает несколько шагов, спрячется за дерево и выглядывает, нет ли кого. Потом к другому дереву подойдет, опять выглядывает. Воздух нюхает, как собака. Совсем близко подпустили. Убили. Стали свежевать. Что за оказия? Старая пуля в загривке. Муж вытащил ее, повертел в руках и говорит: «Моя пуля. Позапрошлый год я этого медведя стрелял, когда по чернотропу сохатить ходил». Через три года нашел медведь мужа и решил отомстить за пулю.
— Вы все на одном месте стояли? — спросил я Авдо.
Но парни зашумели, доказывая, что медведь может через десять лет опознать охотника.
Залаяли собаки громко и зло. Мы выбежали из зимовья. Дул пронизывающий ветер. Тучи куда-то унесло. Мы выстрелили по разу и вернулись в зимовье.
Так мы провели всю ночь. А когда рассвело, вооружившись винтовками, втроем, Валентин, Михаил и я, пошли за водой к ручью. Утро было морозное. На снегу образовалась ледяная корка чуть не в палец толщиной.
— Теперь соболя на вертолете не догонишь, — проговорил Валентин.
— Да, — отозвался Михаил. — Теперь жди, когда новый снег с четверть выпадет. Тогда только эта корка рассыплется. До этого и не пускай собак, обезножат сразу.
Мы вошли в березовую рощу. Михаил вдруг остановился.
— Ты что? — подняв винтовку, спросил Валентин.
— Что-то в снегу шебуршит.
— Померещилось тебе.
— Да нет.
Смотрим, рядом с тропинкой в снегу рябчик сидит. Перо намокло и смерзлось. Не может лететь.
— Вот черт, — проговорил Валентин. — Сколько птицы погибнет.
Разговариваем. Вдруг у зимовья залаяли собаки, одни сердито, с остервенением, другие визгливо, с испугом. Из общего гвалта вырвался дикий визг. Раздалось подряд несколько выстрелов. По лесу прокатился грозный рёв медведя.
Мы бросились к зимовью. Андрей с Авдо стояли у двери с ружьями. Оба бледные, взволнованные. Недалеко от огнища валялась окровавленная собака.
— Шатун приходил, — сообщил Андрей. — На глазах собаку растерзал.
— Где он? Или промазал?
— Мы вверх палили, боялись собак перестрелять. Убежал вон в тот лесок, — Андрей показал на сосновую рощу в бору.
Мы пошли по следу зверя. Собаки на поводках: отпустишь — и медведя не остановят, и ноги покалечат о корку льда.
След ведет к бору. Впереди, среди сосенок, что-то мелькнуло. За порослью показалась черная туша медведя. Сделали по выстрелу. Но далеко. Пули только взбороздили снег. Медведь убежал. Теперь шли цепочкой, чтобы в случае внезапного нападения шатуна не мешать друг другу стрелять. А если кто-то один окажется в его лапах, остальные придут на помощь немедленно.
Преследуем медведя долго. Он идет быстро. Несколько раз попадал на глаза, но на выстрел не допускал. В конце концов решили вернуться к зимовью. Долго ломали голову, как заманить шатуна в западню. Авдо предлагает пойти на хитрость.
Мы с Валентином делаем засаду на зимовье. А Андрей, Михаил и Авдо идут в лес и уводят собак с собой. За ручьем собаки находят белку и лают. Но охотники не стреляют. Стучат палкой по дереву, белка прыгает, собаки лают еще азартнее. Это уловка дать знать медведю, что люди из зимовья ушли.
Я прислушиваюсь к лаю собак и внимательно слежу за рощей. Сердце стучит сильно. Рядом сидит Валентин, у него кроме ружья на коленях лежит пальма — огромный нож в две четверти длиной и два вершка шириной, насаженный на полутораметровый черен. Охотники пальму используют и как топор, и как рогатину против зверя. Внешне Валентин спокоен, только блеск глаз выдает его напряжение. Проходят томительные минуты. Наконец Валентин толкает меня локтем в бок и показывает глазами на сосновую рощу. Я ничего не вижу. Но вот из-за колодины вышел медведь и стал осматриваться. Вид у шатуна страшный: тощий, челюсть длинная, с боков свисают сосульки. Шатун постоял с минуту, потом прошел метров десять и опять остановился.
Тут, видимо, на него набросило запах растерзанной собаки, и он большими прыжками подбежал к ней и начал рвать. Мы с Валентином враз разрядили ружья. Слышали, как пуцкнули обе пули. Шатун вздыбился, заревел на весь лес и бросился на зимовье. Сделал он это с такой молниеносной быстротой, что мы не успели вновь зарядить ружья. А медведь прыгнул на стену зимовья, зацепился лапами за верхнее бревно и стал подниматься. Еще миг, и нам, пожалуй, плохо пришлось бы. Валентин вскочил и вонзил пальму в грудь зверю. Медведь шумно вздохнул и, оскалив пасть, как мешок, упал на землю…
Глава 18
Окончены таёжные скитания. Раем кажется просторный дом с занавесками на окнах, домоткаными дорожками на чистом полу, с женскими голосами и детским смехом. Откинувшись на спинку дивана, я наслаждаюсь покоем.
— И какая нужда заставила тебя маяться столько времени, — выговаривает мать, доставая мне из комода бельё.
— Все, мама, хорошо. Отдохнул так, как придумать нельзя.
В комнату входит Надя. Она сегодня в нарядном платье, веселая. А радоваться есть чему: охотники вернулись с хорошими трофеями, а главное, живы и здоровы.
— Собирайся, братец, баня готова.
Баня небольшая. В углу каменка, рядом полок. Две бочки с водой. Длинная лавка. Валентин с какой-то торжественностью распаривает березовые веники. Михаил с Андреем наблюдают за ним. От духовитых веников баня наполняется запахами прелой зелени и березы, словно через снежные бури сюда ворвалась весна.
— Готовы, — говорит Валентин и раздает веники.
Валентин, Андрей и Михаил надевают шапки, рукавицы и лезут на полок. Я остаюсь на полу.
— Вам, ребята, скафандры бы надо…
— Ты давай на полок залезай, — зовет Валентин.
— Нет, друзья, увольте. На такое я не пригоден.
— Тогда подбрось пару ковшиков воды.
Я выливаю два ковша воды на каменку. Каменка охает и клубом пара обдает парней. Парни взмахивают вениками, вначале осторожно, точно птица крыльями перед полетом, а потом все быстрее и быстрее.
— Ещё ковшичек, — стонет Валентин.
Пар густым туманом окутал полок. У меня даже на полу жжёт уши, а парни хлещутся вениками.
Из бани мы приходим красные, точно нас неделю варили в кипятке, а потом коптили на солнце. Выпили по ковшу кваса и пошли в горницу отдыхать. Я прилёг на диван. Тело испытывало необыкновенную легкость, будто вся усталость, которую нажил за месяц таежной жизни, улетучилась вместе с крепким банным паром. И белье казалось необыкновенно чистым и мягким, какого будто никогда не носил. Я подумал о своих городских товарищах. Никто из них не видывал соболя и, наверное, не увидит. Люди обкрадывают себя на каждом шагу. А жаль.
Потом подумал о дочери. Для нее я припас таёжный подарок — шарфик из беличьих хвостов. Вот будет радости. Еще поймал белку, но она удрала из зимовья.
Ко мне на диван подсела мать. В глазах у нее уже затаилась грусть, хотя она старалась её скрывать от меня.
— Ты, сынок, еще с недельку поживешь? — робко спросила мать.
Как её утешить? Да и есть ли такие слова у разлуки?
— Обязательно еще побуду.
Мать сразу оживилась, с благодарностью посмотрела на меня.
— Я тебе гостинец собрала: малосольных сигов положила, налима на пирог, икры тайменьей, два глухаря…
— Опять целый мешок? Да как я повезу-то?
— Не на себе нести. Товарищи придут к тебе, угостить их чем-то надо.
К нам подошел Федя.
— Вот ещё один охотничек вырос, — погладила его по голове мать.
— А мы с бабушкой горнока (горностай) капканами изловили, — сообщил Федя.
— Где же вы его поймали?
— В амбаре.
Мать смеётся.
— Прижился окаянный возле мяса. Приду в амбар, он встанет на задние лапки и смотрит на меня. И такой беленький, будто из снега его вылепили.
А тут прихожу — нет горнока. Думаю, убежал в лес. Беру кусок мяса, а он как выскочит из-под него, как затрещит. У меня с перепугу ноги отнялись, в пояснице колотье открылось, ни согнуться, ни разогнуться не могу. Федя на него и поставил капкан…
После ужина я сразу же завалился в постель. С таким наслаждением я никогда не спал в жизни. За окнами мела метель, тревожно гудел лес, время от времени лаяли собаки. А мне снился город, шумный, беспокойный, к которому я до сих пор все еще не могу привыкнуть, но и без которого уже не могу жить.
…Самолет сел на реке. Я стою с маленьким чемоданчиком. Проводить меня пришли многие. Подошла Авдо, протянула руку. Глаза у нее по-матерински теплые и грустные.
— Не забывай нас…
— Не забуду, — говорю я и чувствую, начинает пощипывать глаза.
Прощай, Авдо. Не хочется расставаться с тобой, но что поделаешь — моя дорога длинная, а на ней очень много встреч и разлук. Я улетаю, но навсегда запомню эту удивительную осень, твои грустные песни и веселый смех, твои замечательные рассказы и нашего Старика.
Авдо подает мне какое-то изделие из дерева.
— Возьми, бойё. Пусть Старик с тобой ходит. Удачу приносить будет.
Я смотрю на подарок. Да, это действительно Старик, сделанный из корня кедрового дерева. Авдо отдала мне свою святыню, своего бога.
— А как же ты без него будешь, Авдо?
— Я старая, мне мало жить надо. Со мной живой Старик есть. Возьми, бойё! Не обижай меня. Юктокон сердиться будет, скажет, пошто другу не помогала? Шибко плохая Авдо стала.
Золотой человек. Чем же я тебя одарю? И тут я вспомнил, что в пиджаке лежит серебряная монета с большой вмятиной на кромке. Эта монета когда-то в юности спасла мне жизнь. Мы с другом ходили на охоту. Друг шел впереди, а я следом. Друг споткнулся, упал, тозовка ударилась о ствол дерева и выстрелила. Пуля чиркнула по моей груди и наверняка пробила бы ее, но в грудном кармане у меня случайно оказалась эта монета. Пуля срикошетила, опалив только кожу. Теперь эту монету мать всегда кладет в карман, когда я ухожу на охоту или уезжаю.
Я достал монету и подал её Авдо.
— Пусть твоя жизнь будет долгой.
— Приезжай, бойё!
— Обязательно приеду, и мы вместе еще побродим по тайге.
Конец первой части. Поскольку автор разделил свою повесть на две части, во избежание системных ошибок сайта из-за больших объёмов текста я также разделю текст и опубликую вторую часть позже.
Немного об авторе:
Кузаков Николай Дмитриевич
5.07.1928 – 14.10.1999
Известный забайкальский писатель Николай Дмитриевич Кузаков, большой знаток сибирской тайги, настоящий мастер прозы, основанной на легендах и былях самобытных народов Забайкалья родился в глухой таежной деревне Ика Катангского района Иркутской области.
Детские годы пришлись на военные годы. С малых лет мальчик был обучен охотничьему ремеслу, помогал взрослым.
В 1945 году семнадцатилетним пареньком, прибавив себе год, он уходит в армию. Служба привела его в Забайкалье. Здесь Дмитрий оканчивает вечернюю школу и в 1963 поступает в Хабаровскую Высшую партийную школу. Работает редактором в Читинском радиокомитете. Николай Дмитриевич явился создателем радиостанции «Колос», позже, в 1973 году, – телевизионной станции «Нива» на Читинском телевидении.
Д. Кузаков пробует свои силы в литературе. В 1958 году выходят записки о милиции «Следствие продолжается».
Первые книги писателя: «Ветерок» (1960) и «Фляжка голубой воды» (1968). Наибольшую известность ему принес роман «Любовь шаманки» (1975). В 1977 году вышла повесть «Тайга – мой дом». Затем роман «Рябиновая ночь», имевшая продолжение в дилогии «Красная волчица» (1983), «Отзовитесь, лебеди» (1990), сборник повестей и рассказов «У седого костра», «Королевский выстрел». Произведения Кузакова повествуют о сибирской тайге, о людях, живущих в ней.
С октября 1974 года Николай Дмитриевич уходит на профессиональную писательскую работу. В 1979г. его принимают в члены Союза писателей России.
Автор пьес, ставившихся в Чите: «Рябиновая ночь», «Любовь шаманки», «Выстрел на малой заставе» (в рукописи), «Слепой бакланенок», «Чудаки».
Отдельные издания:
Ветерок: рассказы для млад. шк. возраста / Худож. Е. Отрадных. – Чита: Читин. кн. изд-во, 1960. – 22 с.: ил.
Лунные колокола: Легенды Забайкалья / Худож. С. Е. Прудников. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1998 с.
Любовь шаманки: роман. – М.: Современник, 1975. – 255 с.
Слепой бакланенок: рассказы для млад. шк. возраста / Худож. Ю. Л. Сокольников. – Новосибирск: Сов. Сибирь, 1991. – 21 с.: ил.
Тайга – мой дом: повесть. – М.: Мысль, 1977. – 144 с. – (Путешествия. Приключения. Поиск)
У седого костра: повести, рассказы, пьеса / Худож. А. Высоцкий. – Иркутск: Вост.-Сиб. изд-во, 1985. – 287с.
Фляжка голубой воды / Худож. Г.Г. Леви. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1968. – 60 с.: ил.






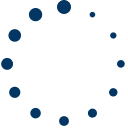
11 комментариев
9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена9 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена